Novorusskii, Tiuremnyi Robinzony
М. В. НОВОРУССКИЙ, ТЮРЕМНЫЕ РОБИНЗОНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1928
Второе издание

Милому моему сыну Люсику приношу эту краткую повесть о долгих мучительных днях безнадежного одиночества.
25 августа 1925 года.
ПОВЕСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
М. В. НОВОРУССКИЙ
ТЮРЕМНЫЕ РОБИНЗОНЫ
С очерком Веры Фигнер и примечаниями Н. А. Морозова
обложка М. ЦЕХАНОВСКОГО
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКВА ЛЕНИНГРАД 1928
Д, 31. Гиг. № 27901/л
Ленинградский Областлит № 17620
13 1/2 л. Тираж 10000
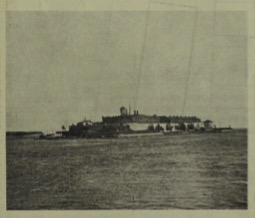
…Мы жили в тесном застенке, где виден клочок неба; ходили по земле, пространство которой исчислялось шагами…
(М. В. Новорусский, Записки Шлиссельбуржца.)
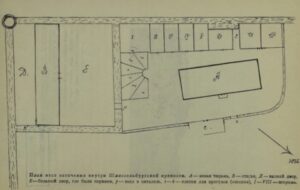
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ НОВОРУССКИЙ
После революции 1917 года, каждое лето, по воскресеньям, тысячи граждан отправляются на пароходе вверх по Неве к истокам ее из Ладожского озера, к тому месту, где лежит островок с крепостью Шлиссельбург. За эту крепость несколько веков русские боролись со шведами, пока более двухсот лет тому назад она не была окончательно закреплена за Россией при Петре I. От него она и получила свое название — «Шлиссельбург» — Ключ-город, вместо прежнего названия — «Орешек». И с тех пор, как она была завоевана, русские цари и царицы сделали из нее тюрьму для тех, кто боролся за свободу русского народа.
В этой крепости, с 1887 по 1905 год, когда революция освободила его, содержался в течение восемнадцати с половиной лет Михаил Васильевич Новорусский, написавший книжку «Тюремные Робинзоны». Я, как товарищ и друг Михаила Васильевича, хочу познакомить тех, кто будет читать эту книжку, с его жизнью и личностью, потому что книжка эта печатается тогда, когда его уже нет в живых: в ночь с 20 на 21 сентября 1925 года он скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг, в полном расцвете своих духовных сил.
Михаил Васильевич Новорусский по рождению принадлежал к сельскому духовенству и детство провел
9
10
в деревне в условиях крестьянской жизни. Это дало ему хорошее знание народа и понимание нужд трудящихся. Его отец был псаломщиком в селе Новая Русса, Демянского уезда Новгородской губернии. «Первоначальное воспитание я получил на улице», — говорил Михаил Васильевич. Весь день с другими ребятишками он гонялся по болотам, рыскал по лесу или проводил время на реке. Когда он подрос, отец отвез его в уездный город в духовное училище, а по окончании его он поступил в семинарию и затем в духовную 1 академию в Петербурге. Юноша он был способный, и начальство надеялось, что по окончании академии он поступит в монахи и сделается архиереем. Но ему было суждено другое.
Как студент академии, он участвовал в землячестве и был депутатом в союзе землячеств. По этим делам у него завязались знакомства со студентами других петербургских учебных заведений, и, между прочим, он познакомился с Александром Ульяновым, братом Владимира Ильича Ульянова-Ленина, революционером и членом тайного кружка, замышлявшего покушение на царя Александра III. Однажды Александр Ильич спросил Михаила Васильевича, нельзя ли на его квартире приготовить несколько фунтов взрывчатого вещества— динамита для ручной бомбы, которую члены кружка предполагали бросить в Александра III. Михаил Васильевич, хотя не был членом кружка, но знал многих из них и сочувствовал революционной борьбе с самодержавием. Поэтому он дал свое согласие, и у него на квартире динамит был приготовлен, посуда же, в которой приготовляли динамит, осталась в квартире и не была увезена. Заговор против царя был раскрыт; пять человек участников были казнены, в числе их и А. Ульянов; восемь человек сосланы в Сибирь, а Михаилу Васильевичу, у которого при обыске нашли посуду, смягчили приговор
10
11
и смертную казнь заменили пожизненным заключением в Шлиссельбургскую крепость, куда его и привезли вместе с другим осужденным по этому делу — Иосифом Лукашевичем (1887).
Михаил Васильевич вступил в крепость молодым человеком, политические убеждения которого еще не сложились. Он сочувствовал положению крестьянства, всей предыдущей жизнью был связан с ним, во все время учения поддерживал дружеские отношения с деревенскими товарищами детства. Но до ареста не успел еще целиком посвятить себя революционной борьбе, и к участи своей — заключенного в крепости на всю жизнь, без срока — он не был подготовлен.
«Никакой роли в жизни я сыграть не успел,— писал он в записке, написанной по моей просьбе, и продолжал: — политическое воспитание я успел получить только в Шлиссельбурге. Мои экономические понятия не шли дальше беспочвенных симпатий к мужику и трудящемуся люду вообще, симпатий, частью унаследованных с детства, частью вынесенных из народнической литературы».
Но тюрьма с ее жестокостью, размышление, чтение и изучение экономических наук закалили его характер, развили его ум и сделали его истинным революционером.
Многие узники Шлиссельбурга, отрезанные от всего мира, в течение долгих лет не имевшие не только свиданий с родными, но и переписки с ними, умерли, сломленные болезнью и загубленные тоской по родине и свободе. Но Михаил Васильевич вынес все, победил все условия, которые сводили одних с ума, других — в могилу. Он вышел из испытания полным сил и энергии, и по выходе из крепости развил такую кипучую культурно-просветительную деятельность, которая вызывает удивление и едва ли кем-либо была превзойдена.
11
12
Лев Николаевич Толстой говорил: «Благо людей — в жизни. А жизнь — в работе». И если кто исполнил завет великого учителя земли русской, — так это Михаил Васильевич Новорусский. В шлиссельбургской тюрьме он работал неустанно и непрерывно. Вначале у нас не было мастерских. Но когда смерть унесла многих, слишком многих, то, как будто для того, чтоб тюрьма не опустела совсем и осталась доходной статьей для всех чиновников и сторожей ее, начались улучшения, были заведены мастерские: токарные, переплетные, столярные и сапожные; устроили огороды, стали накопляться книги. Узники, в том числе и Михаил Васильевич, с жаром бросились работать, и по работоспособности и изобретательности никто не мог превзойти Новорусского.
Книга «Тюремные Робинзоны» дает понятие, до чего может дойти ловкость и умение человека, у которого нет даже товарища-Пятницы, и он самостоятельно должен додумываться, как сделать то, что ему нужно или что ему желательно. Так, когда товарищу по процессу Михаила Васильевича — Лукашевичу надо было раскрасить геологические карты, а никаких красок и кистей у него не было, он брал для черной краски копоть со стекла лампы, а для красной — брал собственную кровь.
Как внимательно узник относится ко всему немногому, что попадается ему на глаза в четырех голых стенах его камеры, показывает следующий случай. Раз Иосиф Лукашевич, читая книгу, нашел между страницами неизвестно как попавшее туда семечко лесной земляники. Одно единственное семечко! Он тотчас подобрал его и сохранил, а потом посадил в землю. И что же? Через несколько лет у него в огороде была небольшая грядка, вся заросшая земляникой, и он собирал с нее ягоды. Он пил с нею чай и, по его словам, «наслаждался». Солнца было мало, со всех сто-
12

14
рон падала тень, — оттого ягоды были кислые, но они напоминали узнику многое — опушку леса, лужайки и полянки, усыпанные земляникой; напоминали детские годы, походы «в лес по ягоды».
Сколько прекрасных коллекций по ботанике, по минералогии и энтомологии (наука о насекомых) сделал Михаил Васильевич в крепости; сколько разнообразных столярных и токарных изделий вышло из его рук. Прочтите книгу Михаила Васильевича «Записки Шлиссельбуржца», где он подробно описал, нашу жизнь в крепости. Многие вещи и коллекции, сделанные «золотыми» руками Михаила Васильевича, можно видеть в Подвижном музее учебных пособий в Ленинграде, где по выходе из Шлиссельбурга до самой смерти работал Михаил Васильевич. Другие его изделия — гербарии, разборные цветы под стеклом и изящные коробочки, в которых заклеены бабочки, жуки и другие насекомые во всех стадиях развития — от яйца, гусеницы или личинки и куколки до взрослого состояния — стоит осмотреть в Музее революции в Зимнем дворце, где есть особая комната, посвященная шлиссельбуржцам. Его гербарии и препараты были так изящно и искусно сделаны, что вместе с другими нашими работами были выставлены на Парижской выставке и заслужили общую похвалу.
Последние годы, начиная с 1917 года, Михаил Васильевич был директором Сельскохозяйственного музея, для которого сделал чрезвычайно много. Находя, что недостаточно видеть скелеты и чучела животных и сухие препараты растений, он организовал на Крестовском острове Живой сельскохозяйственный музей, так называемый Учебно-показательный питомник, который посещали учащиеся и интересующиеся этой отраслью знания. Там было скотоводство, птицеводство, пчеловодство, цветоводство, огородничество, семеноводство и т. д.
14
15
Кроме занятий по Музею, Михаил Васильевич очень много писал в газетах, журналах и написал много книг и брошюр. Невозможно в этом предисловии перечислить все, что было написано им как литератором. Это был бы список в несколько страниц. «В иной год я исписывал более стопы бумаги», — говорил он. Все его сочинения относятся, главным образом, к естествознанию и сельскому хозяйству или касаются области просвещения.
Михаил Васильевич был членом многих ученых обществ и различных комиссий, читал лекции в различных городах и в самом Ленинграде, и можно было только удивляться, как он всюду поспевает. Когда, бывало, я говорила ему: «Дайте себе отдых» — он отвечал: «Я должен наверстать те восемнадцать лет, которые у меня отнял Шлиссельбург».
Но эти восемнадцать лет не были отнятые, потерянные годы. Именно в эти годы он получил ту подготовку, которая создала из него знатока многих отделов науки и выработала из него общественного деятеля и деятеля в области просвещения.
Характер Михаила Васильевича, кроме упорной энергии и великой самодеятельности, отличался скромностью, спокойствием н неизменной ровностью. О людях он судил строго и правдиво, и, поэтому, в сношениях с людьми, благодаря деловитости и сдержанности, мог с первого взгляда казаться сухим и холодным. Но он никогда не отказывался хлопотать за других, и это отнимало у него много времени и много сил.
После освобождения из крепости судьба улыбнулась ему, подарив ему личное счастье, — он имел любимую жену и сына, с которым он был очень дружен.
Будем надеяться, что все, знавшие Михаила Васильевича лично, и тысячи ленинградских рабочих и граж-
15
16
дан, слышавшие его лекции и под руководством в течение восьми лет посещавшие Шлиссельбургскую крепость, не забудут того, кто’ всю свою жизнь отдал на благо народа и на основании собственного опыта рассказывал им у памятника, воздвинутого на костях погибших, о страданиях, испытанных узниками нашей русской Бастилии.
Вера Фигнер.
1925. Х.

16
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О РОБИНЗОНЕ
ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
Наверное, мы все читали, а то слыхали историю про Робинзона. И каждый раз, как мы слышим слово «Робинзон», мы вспоминаем необитаемый остров, затерянный где-то среди морского простора.
Туда не заходят корабли и не заглядывают люди.
Заброшенный на этот остров, одинокий человек живет беспомощно среди всевозможных лишений. Ему приходится самому добывать для себя все, в чем он нуждается; жилище, одежду, пищу.
Но в этой одинокой и необыкновенной жизни человек проявляет столько изобретательности, столько сообразительности, сколько не приходится проявлять ни одному человеку, если он живет в обществе других людей.
Война родит героев, а нужда, — изобретателей и творцов.
Жизнь Робинзона, это — жизнь на лоне природы, без людей и без всяких средств к жизни. Жизнь, полная лишений и в то же время торжества над этими лишениями. Жизнь в постоянном и притом чрезвычайно разнообразном труде. В этой жизни человеку приходится учиться всему и до всего доходить своим умом.
17
18
Труд, руководимый разумом, борьба с препятствиями и торжество над природой, это — старая, но и вечно новая история.
Вот почему история о Робинзоне Крузо читается с таким захватывающим интересом детьми разного возраста и разных народов. Вот почему книга о Робинзоне Крузо, написанная более двухсот лет тому назад, не утратила доныне своего интереса, и каждое новое поколение читает ее с таким же увлечением, как и старое.
С тех пор, как книга о Робинзоне сделалась известна, Робинзоном стали называть всякого человека, которого судьба забросила в необитаемую местность и заставила устраиваться в одиночку, среди всяких испытаний и невзгод.
Поэтому по справедливости можно назвать Робинзонами и нас, которым пришлось долгие годы провести в заточении, в застенках царской тюрьмы, среди необычайных лишений. Эта тюрьма находилась в Шлиссельбурге с давних времен.
И вот теперь я хочу рассказать юным читателям о тех злоключениях, о тех невзгодах, трудах и успехах, которые в свое время выпали на нашу долю.
Жизнь наша во многом напоминала нам самим жизнь Робинзона, с той только разницей, что он попал на необитаемый остров сам, увлеченный жаждой приключений, нас же оторвали от мира насильно. Прочтите эту книжку, и вы сами увидите, насколько похожи или непохожи наши тюремные Робинзоны на настоящего.
18
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I. Как мы попали на необитаемый остров.
Наш остров не был затерян среди безграничного океана. Он находился на расстоянии всего шестидесяти верст от Петербурга, ныне Ленинграда. Он был постоянно на глазах высшего начальства, которое никогда про нас не забывало. Оно получало о нас ежемесячные отчеты, а нередко и само посещало нас.
Но, несмотря на все это, мы были вычеркнуты из списка живых. Мы были на всю жизнь сосланы на этот остров, и никто, ни родители ни друзья, не должны были знать, где мы находимся.
Нас отделял от других людей не безбрежный и бурный океан, а тихие воды маленькой реки Невы, непроницаемые стены крепости, замки и крепкие двери. Над нами царил суровый произвол властей, которые строго нас охраняли, никого к нам не допускали и никуда нас не выпускали. Мы сидели на острове, окруженном широким водным пространством, где течение было настолько быстрое, что зимой даже не покрывалось льдом. Остров окружен громадной крепостной стеной, с единственным входом, который был постоянно заперт и охраняем. Внутри крепости мы были отгорожены стеной, ворота в стене были тоже заперты (второй замок). Наружная дверь тюрьмы тоже запиралась (третий замок). За нею следовали
19
20
решетчатые двери, ведущие на наш коридор, которые запирались на ночь (четвертый замок). Наконец, дверь камеры была постоянно заперта (пятый замок), причем она запиралась двумя ключами, на один или на два оборота, и ключ, запиравший на два оборота, находился всегда в квартире смотрителя.
Побег был немыслим при таких условиях.
И мы долгие, очень долгие годы ждали, как Робинзон, чтобы на горизонте появился спасительный корабль, который привезет и объявит нам освобождение. Это была мечта, которой мы жили. Это была вера, без которой мы не могли бы прожить так долго в тюрьме.
Попали мы на этот остров за борьбу против царского самодержавия, за то, что осмелились желать свободы русскому народу.
Мы никогда не теряли надежды на то, что в этой неравной борьбе царское самодержавие потерпит поражение, и что молодое поколение, которое выступит нам на смену, рано или поздно одержит победу и таким образом освободит нас.
Остров, куда нас поселили, точно самой природой был создан для того, чтобы можно было неслышно и незаметно хоронить в нем живых людей. Никто, кроме избранных и посвященных, не должен был знать, кто живет на острове и что происходит на нем за его глухими стенами. Никто не должен был знать о тех казнях, о тех самоубийствах, о тех расправах над революционерами, которые здесь происходили.
Поселили нас на этот остров не всех сразу, а постепенно. Открыли для нас это старинное убежище узников в августе 1884 года. А когда через два с половиной года прибыл туда и я, там было двадцать человек живых. Но многие уже успели умереть.
20
21
Меня привезли туда 5 мая 1887 года. Было прекрасное весеннее утро, когда мне сказали, что нужно выходить из каюты маленького пароходика, на который меня посадили в Петербурге глубокой ночью. Я вышел из каюты и увидал, что пароходик стоит вплотную у берега.
Сзади было широкое русло Невы, а влево виднелась необъятная гладь Ладожского, озера.
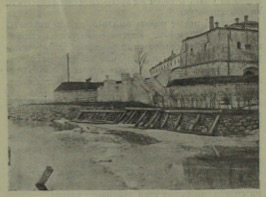
Предо мной, почти у самого берега, высилась семисаженная каменная стена Шлиссельбургской крепости, от которой углом выступала башня с воротами. Эти единственные ворота и вели внутрь моего будущего жилища.
Меня взяли под руки двое дюжих жандармов и затем повели, не выпуская из рук. Высадка произошла очень быстро.
21
22
Внутри крепости я увидал церковь, казарму и несколько служебный зданий, а вдали за новой кирпичной красной стеной выступало двухэтажное, такое же красное, здание тюрьмы.
Я и мои спутники прошли через белое здание кордегардии; там нас провели сквозь строй двенадцати вооруженных солдат, не считая часового, и вывели на тесный тюремный двор. Здесь мы свернули налево и подошли опять к такой же крепостной стене (крепость внутри крепости).
А сквозь новые ворота вошли в тесную цитадель, или секретный замок. Внутри его я увидал старинное, низкое, на солнце ярко белевшее, здание, которое, повидимому, было последним на моем пути.
Над самой стеной его, среди скудной молодой зелени, золотом отливали только-что распустившиеся одуванчики. Эти вестники весны были последними, которые напоминали о жизни на воле. Успела мелькнуть мысль:
— Как могуча сила природы!
Даже здесь, почти на голых камнях, среди массивных и тесных стен, пробиваются скромная травка и полевой цветочек.
Еще шаг. Меня спрячут в глухих стенах каземата и, может быть, я никогда не увижу ни этой травки, ни солнца, ни белых стен каменного здания.
II. Что ожидало меня внутри застенка.
Внутри этого здания меня ввели в пустую камеру, раздели, обыскали, переодели в арестантский костюм и замкнули в другую камеру, вдали от первой.
Мой костюм состоял из грубого, толстого и серого белья, из холщевых штанов и такой же куртки до пояса, с черным тузом на спине. На плечи мне наки-
22
23
нули просторный халат из арестантского сукна с бубновым тузом желтого цвета на спине.
После мне дали блинообразную шапку без козырька из такого же сукна, с черным крестом наверху, а к осени суконные штаны и куртку. У серой куртки рукава были черные.
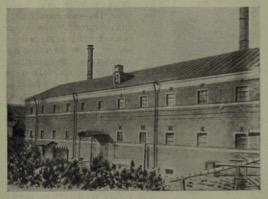
Такое переодевание означало, что прежний человек теперь исчез навеки, а вместо него появился новый. Появился каторжник, с которым и обращаться будут по-каторжному. Туалет совершался в присутствии начальника шлиссельбургского жандармского управления, его двух помощников, доктора и нескольких нижних чинов. Все сурово молчали.
Несмотря на всю печальную серьезность такого
23
24
переодевания, одежда, которой меня наградили, казалась мне чересчур смехотворной. Казалось невероятным, что высшие власти способны заниматься такими пустяками, как тузы, черные рукава и черные кресты, и с серьезным видом ломать такую комедию.
На ноги были даны широкие, весьма просторные башмаки или коты, у которых на каблуках были густо набиты гвоздики с широкими и толстыми шляпками. По каменному полу они страшно стучали. К ноге башмак привязывался веревочкой, а вместо чулок выдали онучи или портянки.

Этот костюм был один и тот же и летом и осенью, в комнате и на дворе, на работе и на отдыхе. Изменили его только лет через десять.
Когда я был одет, мне жестами указали, что я должен итти куда-То вдоль коридора, и через минуту я очутился у двери № 8, вошел в нее и был захлопнут наглухо.
Это был конец моего короткого путешествия, конец и моей молодой жизни. Мне только недавно исполнилось 25 лет. Из них 14 лет я провел в глухих стенах закрытых учебных заведений и только 6 месяцев «на воле». Конец надеждам, молодым стремлениям и исканиям лучшего будущего, конец гордым думам и горячим порывам. На вратах нашего Ада стояла золотая надпись, уцелевшая, кажется, со времен Петра I: «Государева». Так называлась башня, сквозь которую тес-
24
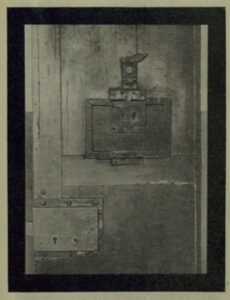
26
ным и низким изгибом шел единственный вход в крепость. Но мы потом шутили, что в этой надписи есть недоговоренность и что нужно читать: «Государева тюрьма».
Камера, где я очутился, была довольно просторная, до двенадцати шагов из угла в угол, сырая и темная. Стены были выбелены известкой и только снизу, на высоте аршина от полу, выкрашены коричневой краской. Пол был асфальтовый, некрашеный, грязный. Единственное окно выходило на узкий дворик, прямо против крепостной стены. Рамы были толстые, двойные; за ними решетка, стекла матовые. Солнце сюда никогда не заглядывало. В этом склепе царил постоянный мрак. В пасмурные дни читать было почти совсем невозможно.
Мебель состояла из железной кровати, приделанной к стене, с мочальным матрацом и подушкой, да из железного стола и стула, которые тоже были вделаны в стену.
На стене, приклеенная хлебом, висела инструкция, заменявшая нам Свод Законов. За преступление заключенным следовало пятьдесят розог или смертная казнь, первое наказание в административном порядке, второе — в судебном. Инструкция менялась несколько раз.
Осматривать в таком жилище было нечего, а развлекаться чем-нибудь — тем более, так что я всецело был предоставлен своим думам.
В 12 1/2 часов неожиданно отворилась форточка в двери, и мне подали обед из щей и каши.
В 4 часа так же неожиданно открылась форточка, и мне дали кружку чаю и кусочек сахару. Чай был безвкусен, с запахом веника, но зато горячий. В 7 часов, вместо ужина, я получил немного какой-то размазни. А в 9 часов внесли медную керосиновую лампу и предупредили, что она должна гореть всю ночь.
26

28
Так кончился первый день моей подневольной жизни.
Я забыл упомянуть еще об одной подробности, привыкнуть к которой было не легко: дежурный поминутно заглядывал в глазок. И бесило же заглядывание на первых порах! Через год я уже относился совершенно равнодушно к подглядываниям и не обращал на них внимания.
Размеры здания и количества камер я не мог определить сразу. Но подозревал, что в этом здании, кроме меня да Лукашевича, шаги которого я слышал в соседнем номере 9, помещены еще товарищи. Однако, как ни старался я уловить звуки, — я ничего не слышал. Толстая, обитая железом дверь захлопывалась плотно, как пробка, массивные стены, в 1 1/2 аршина толщиной, были непроницаемы для звуков. К тому же ориентироваться во всяком новом помещении подобного рода крайне трудно. Поэтому я остановился на мысли, что мы с Лукашевичем здесь только одни.
Много лет спустя от дежурных мы узнали, что наши товарищи, приговоренные к казни, сидели здесь 3 дня вместе с нами и что они были казнены в 2 часа ночи, 8 мая, когда мы крепко спали.
Прошло недели три. Раз как-то дверь открылась в неурочное время и жандарм произнес:
— Мыться.
Я вышел и, пройдя по коридору в другой конец здания, увидел комнату, где помещалась ванна. Я хотел было уже войти туда, как был остановлен его возгласом:
— Надо постричься.
Я сел на табурет и дежурный солдат принялся стричь меня. Но при этой операции он не употреблял гребенки и потому сделал меня похожим на только-что остриженную овцу: где была голая кожа, а где топорщились редкие кустики волос.
28
29
Когда мы после этого увидались с Лукашевичем и показали друг другу свои головы, то долго смеялись.
После ванны, которую заключенные принимали на глазах у двух жандармов, мне дали в придачу к тому костюму, который я получил в первый день, ходшевые штаны и такую же куртку, длиной до талии и с серым тузом на спине. Ванна делалась в это время раз в месяц, по субботам, белье же носильное менялось еженедельно, а спальное — дважды в месяц.
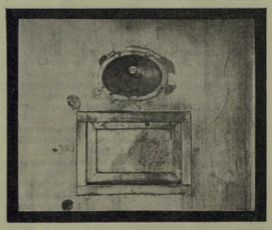
Недель через семь меня перевели в новое красное здание, о котором я упоминал (за стеной секретного замка), В нем камера была вдвое меньше, но светлее
29
30
и совершенно сухая. А мебель была точно такая же. Вводя меня в новую камеру, жандарм предупредил, что «здесь, вероятно, будут стучать, так прошу не отвечать». Стуков никаких я не слыхал, однако, сразу почувствовал, что попал в общежитие. Здание, строенное на цементе, прекрасно передавало звуки. Большой коридор служил резонатором этих звуков, и по количеству дверей или форточек, отворяющихся для раздачи обеда, можно было определить число товарищей по несчастью.
Правда, я не сразу научился разбираться в звуках. Вначале, например, я слышал шаги у себя над головой, но не мог решить, было ли это прямо надо мной, справа или слева. Впоследствии мои уши приобрели такую же чуткость, как пальцы слепых, и я, прислушавшись, мог безошибочно определить, сидит ли жившая надо мной Вера Николаевна в данную минуту или лежит.
Попав в эту камеру, я, с небольшими перерывами, просидел в ней 17 2/2 лет и только в ноябре 1904 года окончательно переселился в верхний этаж.
Лукашевича привели вслед за мной и посадили опять рядом, в № 9.
Итак, у меня была готовая одежда, готовое жилище, даже готовое пропитание. Заботиться было не о чем. И потянулись однообразные дни за днями, похожие друг на друга, как две капли воды, без малейших перемен.
Мы обречены были на полное безделье. И в этом убийственном бездельи должны были проводить свои бесконечные дни. Вместо каторжных работ, подневольных уроков, спускания в недра земли и труда в сырых или промерзлых шахтах, нам досталось на долю «смирное сиденье». При таких порядках негде было проявлять свое творчество. Единственное занятие, которому можно было предаваться невозбранно,
30
31
было хождение из угла в угол. Но и то было затруднено длинным халатом да башмаками.
Между 8 и 12 ч. утра каждого из нас выводили во двор для прогулки на два часа. Для этого устроены были маленькие дворики из высоких четырехаршинных глухих заборов. Заборы были двойные — одна сторона из досок, сложенных горизонтально, другая — из досок, прибитых вертикально. Между этими стенками был промежуток вершка в два. Благодаря такому устройству не было ни малейших щелей, в которые мог бы украдкой заглянуть луч солнца. Дворики были густо усыпаны песком, а всякая зелень в них искоренялась начисто.
Единственная работа, которая допускалась в это время, была вот какая. В каждом дворике было насыпано по куче песку, и в нее воткнута деревянная лопата.
— Зачем это? — спросил я смотрителя, когда он повел меня первый раз на прогулку.
— А это можно пересыпать вот сюда.
— А потом?
— Потом опять на прежнее место.
Труд этот, бессмысленный и нелепый, был настоящим каторжным трудом.
Никакой другой работы во дворе или в камере не разрешалось. Никаких занятий. Ни книг, ни бумаги.
Наша высадка на остров произошла совершенно безопасно. Но чрезвычайно опасна была жизнь на острове в первые годы. Такая жизнь была хуже всякого кораблекрушения. Это кораблекрушение зависело не от слепой стихии, а от сознательной воли людей, которая иногда действует гибельнее всякой стихии.
И вот моя дальше история будет историей о тех, которые уцелели…
В течение нескольких ужасных лет многие умерли, других казнили, а третьи сами покончили с собой,
31
32
но, в конце концов, нам удалось сломать начисто такие порядки. После постоянной и упорной борьбы мы сумели добиться того, что нам разрешили книги, инструменты и работы. Только тогда мы смогли развернуть свою изобретательность и проявить себя тюремными Робинзонами.
III. В одиночку или вместе?
Чтобы сделать нас настоящими отшельниками, которые не должны видеть ни одного человеческого лица, кроме жандармского, для нас устроили одиночные камеры и не разрешали нам видеться друг с другом ни в камерах, ни во двориках.
Жили в одном здании, под одной крышей, входили каждый в свою келью из одного и того же коридора. Но начальство не допускало ни под каким видом, чтобы мы как-нибудь встретились друг с другом.
Мы слышали шаги друг друга. Слышно было, как в соседних камерах покашливали, шагали или чихали. Во время раздачи пищи слышали голос соседа, если он спрашивал что-нибудь у смотрителя. Но никого не видали.
Мало того, у многих тут были близкие друзья. Многие не видались друг с другом три-пять лети более. Здесь они впервые очутились вместе после разлуки. Но быть по-настоящему вместе им строго запрещалось. Даже перед смертью и то не разрешали посетить товарища. Умирали в совершенном одиночестве.
Мы были молоды, сильны, хотели жить, тюрьма еще не успела иссушить нас, и потому всю силу своей молодой энергии мы направили на то, чтобы разрушить такой порядок. И на самом деле мы сумели это сделать, хотя борьба была тяжелой и продолжа-
З2
33
лась целых десять лет. Борьба эта была разная: или открытая, или тайная, закулисная.
Конечно, те блага, которые нам нужно было завоевать, сами по себе ничтожны, но они были для нас необходимы. Нас обрекли на физическую и духовную смерть. У нас хотели отнять самое ценное, что было для нас дороже жизни — нашу духовную личность.
Целый ряд мелких стычек, главным образом за право перестукиваться и гулять вдвоем, закончился трагическим самоубийством Грачевского — он сжег себя.
Итак, мы стали перестукиваться. Для этого существует особая условная азбука. И всякий, кого судьба забросит в одиночное заключение, легко догадается, в чем тут секрет. Самый принцип разговора посредством стука изобретен, как говорят, декабристом Бестужевым. Мы только немножко усовершенствовали его, введя массу сокращений в словах, например, вместо «хорошо», стучали «хр.», вместо «человек» — «чл.» и т. д. Наконец, темп ударов, по мере навыка, все учащался, и некоторые виртуозы дошли до такой степени совершенства, что их стук для непривычного уха слышался, как сплошная трещотка, в которой отдельные удары неразличимы.
Стучать, даже чрезвычайно тихо, конечно, запрещали. На этом занятии ловили. Пойманных лишали чаю, прогулки, сажали в карцер, — карцер простой или карцер строгий.
Но никто карцера не боялся. Запрещению никто не подчинялся. Наконец, жизнь взяла свое, и мы стали перестукиваться свободно, громко и без помехи.
Вначале стучали косточкой указательного пальца, грифелем или ложкой. А с появлением мастерских каждый обзавелся какой-нибудь примитивной колотушкой.
Стучали чем-угодно, а стук в дверь был так громок, что мог разбудить мертвого.
33
34
После того, как я сделал себе барометр, а Попов приобрел наружный термометр, прибитый за окном его камеры, мы оба выстукивали по утрам на весь коридор свои метеорологические даты. Весной, в критические для огородника дни, эти даты были очень полезны.
Первое время, когда мы добились разрешения перестукиваться, мы стучали целыми часами.
Иногда после обеда все соседи по сигналу созывались в «клуб». При этом каждый ложился на свою кровать, вооружался стуколкой, напрягал внимание и слушал речи или сам держал их. Так как кровати четырех камер (две вверху и две внизу) при мыкали к одной и той же стене, по которой звук передавался и слышался привычным ухом так, будто бы потолка вовсе не было, то все четверо оказывались как бы лицом к лицу. Но и другие ближайшие соседи, хотя не так отчетливо, могли слышать разговор.
В этом оригинальном «клубе» беседы длились подолгу, но были немногословны, ибо речи, продолжавшиеся по пять минут, состояли всего из двух-трех фраз.
Камера, где сидела Вера Николаевна, была надо мной, и мы часто перестукивались в сумерки, особенно в пасмурные дни, когда читать нельзя было уже задолго до захода солнца, ламп не давали, а длинные сумерки нужно было убить как-нибудь.
Несмотря на строгую изоляцию, мы превосходно угадывали душевное настроение друг друга по стуку.
Но стук был первобытным способом сношений, крайне несовершенным и весьма неудовлетворительным. Хотелось большего и лучшего.
Хотелось не только слышать стуки, но и видеть живого человека, говорить с ним лицом к лицу.
Первый шаг к общению с товарищами начался после того, как нам разрешили гулять вдвоем.
Случилось это так.
34

ЛУКАШЕВИЧ, ИОСИФ ДЕМЕНТЬЕВИЧ, (род. 1863 г.)
Родился в Виленской губернии и с юности увлекался естественными науками. Поступив в тогдашний Петербургский университет, он особенно много занимался ботаникой, химией и геологией. Присоединившись к тайному кружку Александра Ульянова и Шевырева, он принял деятельное участие в заговоре против Александра III. Арестованный в 1887 году, он был приговорен к смерти, а затем к пожизненному заточению в Шлиссельбургской крепости. Там он деятельно продолжал заниматься науками, делал ботанические коллекции, модели кристаллов и разные физические приборы и преподавал естественные науки товарищам, у которых пользовался особенным авторитетом. После освобождения в 1905 году принял деятельное участие в организации Географического института в Ленинграде, а потом стал профессором геологии в Виленском университете. Издал многие научные труды:
«Неорганическая жизнь земли» (в 3-х томах) и др.
Николай Морозов.
37
Когда мы узнали, посредством стука, всех своих товарищей, мы в разговоре с начальством стали называть друг друга по фамилиям. Те поняли, что мы все равно знаем всех, кто здесь. Прятать нас друг от друга было просто смешно и не было никакого смысла. А тут оказалось, что всех нас больше двадцати пяти. Мест нее для прогулок было устроено только двенадцать. За две смены, гуляя поодиночке, могли уместиться на прогулке только двадцать четыре. А потому стали разрешать гулять вдвоем, сначала больным и слабым, а потом и всем.
Но только постоянно с одним и тем же товарищем.
У каждого одинокого Робинзона появился свой Пятница. Вернее сказать, каждый был, смотря по обстоятельствам, то Робинзоном, то Пятницей.
Нужно ли говорить, с каким восторгом мы встретились здесь с тов. Лукой,[1] с которым мы были знакомы на воле и с которым мы ехали сюда на пароходе в одной и той же каюте. Нужно ли прибавлять, что у нас было о чем поговорить и что разговор у нас ни на минуту не умолкал.
Как один миг, пролетели законные два часа. Нас развели по своим камерам и заявили, что следующая прогулка вдвоем будет только через день. Я и теперь прекрасно помню, какое удовольствие доставила тогда нам обоим эта прогулка. Казалось, гулял бы целый день и никогда не насытился.
С годами все это изменилось. Но это были первые победы и потому мы так радовались.
Но с годами и нас становилось все меньше и меньше. Умирали почти каждый месяц. Иногда и по двое в
—
[1] Лукой автор называет И. Д. Лукашевича, товарища по процессу. Ред.
37
38
месяц. Было двадцать семь, потом двадцать пять, затем двадцать, восемнадцать, двенадцать и, наконец, всего-на-всего десять человек. К концу жизни в Шлиссельбурге мы могли видеться не только по двое, но по четверо и даже по шестеро.
Это был большой шаг вперед. Прежде, чтобы передать кому-нибудь записку или другую посылку, мы должны были пускаться на всевозможные ухищрения: подкапываться под забор, если гуляли рядом, или зарывать в огородную почву, среди репы и капусты, если гуляли в том же огороде по очереди.
Наше строгое одиночество кончилось. Но оторванность от мира была не легче, а еще тяжелее, так как переписки с внешним миром у нас не было. Правда, десять лет спустя после заключения нам разрешили переписку с родными. Но получать письма и отвечать разрешали только два раза в год и то на листе бумаги определенного формата. Писать надо было по особой инструкции. Родные сообщали нам о бурях, об урожае и о семейных событиях. Никакие другие сведения не допускались и, если они попадались в письмах, то тщательно вымарывались чернилами. А мы? О чем мы могли писать? Писать о товарищах, о тюремных порядках — запрещалось. С родными и друзьями на воле у нас уже были порваны связи и нам трудно было отвечать на их письма. Другого мира, кроме тюремного, у нас не было, а потому мы писали о своих занятиях, о своих мастерских — и только. При нашей полной оторванности от мира такая переписка, конечно, давала мало утешения. Вот почему мы и не особенно обрадовались, когда нам разрешили ее. Мало утешало меня и то, что изгнан из жизни был не я один, а со мной вместе и несколько других энергичных и даровитых товарищей. Я страдал не только сам за себя, но и за них.
38
IV. Первая работа.
После пересыпания песку, первая осмысленная работа, которую я получил, досталась на мою долю довольно скоро. Старшие мои товарищи ждали ее года два. Без дела скучно.
И они и я испытали всю горечь безделья.
Живой, здоровый и молодой человек сам рвется к какой-нибудь работе, либо к спорту. А сидеть без дела месяцы и годы совсем невыносимо. Это мучение мы пережили в полной мере, как бы для того, чтобы потом почувствовать всю прелесть труда.
Наши дворики были густо усыпаны песком — как будто для того, чтобы мы лучше познали, какую радость может дать простой зеленый огород.
Я и не подозревал, что такой огород имеется вблизи, до тех пор, как однажды при выходе на прогулку меня привели к новой двери и захлопнули в клетку, полную зелени. Это и был огород.
Три высоких и плотных забора из новых досок приставлены были под прямым углом к старинной крепостной стене. И все вместе они образовали продолговатый четырехугольник, примерно 9 саж. в длину и 3 саж. в поперечнике. Поперек этого четырехугольника были устроены грядки, и на них зеленели разными оттенками брюква, морковь, свекла.
Был уже июль месяц, и молодые растения были в полном развитии.
Мне указали на две грядки. В огороде была лейка и кран. Можно было хоть каждый день поливать свои грядки водой.
Но никаких других инструментов для работы в огороде не полагалось. Я оказался на положении Робинзона…
Что было делать и с чего начать?
39
40
Первое, с чего я начал, эхо — я подыскал длинный и заостренный камень и воспользовался им как окучником для работы. Эту работу я видывал когда-то в деревне.
Но работы в этом огороде было слишком мало. Тогда еще мне было неизвестно, кто подготовил для меня готовые грядки. Но впоследствии я узнал, что их вскопали и засеяли сами жандармы, нам же разрешалось только «вручную» ухаживать за посевом.
Таково было начало нашего разумного труда. Путем перестукивания в камерах мы узнали, что таких огородов всего шесть. В каждом огороде было четыре совладельца. Порядки огородные у всех были одинаковые.
Наслаждаться огородом мне приходилось большею частью одному. Лукашевича водили в тот же самый огород, но, по каким-то соображениям, не одновременно со мной. Точно они считали уж слишком большим недопустимым благом соединять вместе удовольствие свидания с удовольствием быть среди зелени.
Первое лето мы с Лукашевичем провели в готовом огороде, который был засеян не нами. Мы были в нем простыми зрителями.
Настала вторая весна, и мы с Лукой решили сами делать грядки на своем огороде. Но, увы, для работы нам дали обыкновенные деревянные лопаты. Те самые, которыми зимой мы сгребали снег. Железа на них не было, и потому их было невозможно воткнуть в землю, которая срослась корнями и слежалась за зиму. Таким образом мы были отодвинуты дальше каменного века — к тому времени, когда первобытный человек копал землю первым попавшимся суком дерева. Что было делать?
Я не стану здесь рассказывать, сколько надо было пережить горя, чтобы добиться возможности работать как следует.
40
41
Прекрасно помню наш первый огородный дебют.
Прежде всего при работе оказалось, что я без очков даже копать землю не могу, и мне с большими затруднениями удалось получить от доктора какой-то старенький и плохенький экземпляр очков.
За этим последовало не менее оригинальное продолжение, зависевшее, правда, исключительно от нас самих. Мы с Лукашевичем, как люди неопытные в труде, предварительно взвешивали и обсуждали каждый шаг до мелочей. И вот, по зрелом размышлении, мы определили примерный, и даже максимальный диаметр брюквы. И сообразив, что ничто не мешает корням сидеть вплотную друг к другу, мы по этому расчету наметили гнезда, где посадить рассаду. Конечно, мы посадили ее так часто, что ничего не получили. Думая все время о корнях брюквы, мы забыли о ее листьях, которые требуют для своего развития надлежащего простора и без развития которых не растет и корень.
Другие, не менее нас опытные огородники, сажали, например, лук репчатый не иначе, как «вверх тормашками», и потом крайне удивлялись, видя, как из того места, где бы должна появиться луковая зелень, на самом деле лезут корни.
Впоследствии, сделавшись знаменитыми огородниками, мы стали тщательно замалчивать свои не менее знаменитые первые шаги.
Наша борьба за труд одновременно сопровождалась и борьбой за землю. Наши огороды были слишком тесны и никак не могли насытить наш земельный голод. А, между тем, вся площадь цитадели, так называемый большой двор, стояла внутри словно каменистая пустыня перед маленьким оазисом, который прекрасно зеленел в наших больших ящиках, называвшихся огородами.
В скором времени мы получили железную лопату.
41
42
лом, кирку. А в старом здании тюрьмы были организованы разные мастерские. Здесь я мог соорудить тачку и носилки — самые необходимые вещи для наших землекопных работ.
Едва только мы попробовали действовать в своем огороде ломом и настоящей лопатой, мы увидали, что огородная почва лежит только сверху небольшим слоем, а под ним известковый мусор, никуда негодный для земледельческих работ.
Позднее мы узнали, что когда разрешено было устроить огороды, то землю для них привезли с того берега на барже, а с баржи солдаты перевозили ее на наш двор.
V. Мы добываем и создаем землю.
Мы не могли и не хотели, удовлетвориться только огородами. Фантазия уносила нас далеко за пределы застенка, на волю, в родную деревню… И мы мечтали развести и цветы, и деревья, и плодовый сад, и создать хоть маленький уголок природы, где мы могли бы отдохнуть душой. Но для этого земли не было, и нам оставалось самим продолжать поиски земли. На привезенной земле могли еще кое-как расти овощи и травянистые растения. Кустарникам же и деревьям пускать корни было некуда.
Местом добычи земли мы избрали большой двор, где было просторно для таких работ.
Когда мы заложили первую шахту для добычи земли из земных недр, то оказалось, что из глубину одного метра и больше (2 аршина) залегает пласт известкового мусора, смешанный с плитняком. Это был многовековый строительный мусор, который накапливался на острове пять столетий, со дня постройки здесь первых плитняковых стен крепости.
На этом мусоре даже сорная трава не хотела расти.
42
43
Выкапывая этот мусор, мы отбрасывали его в одну сторону. А докопавшись до материковой наносной мелкой почвы, мы выгребали ее и отбрасывали на другую сторону. Когда шахта стала глубокой, мы спускали туда ведро на веревке. Один стоял на дне и насыпал ведро, а другой наверху вытаскивал землю и сваливал.
Дня два-три мы добывали землю, да день либо два разносили ее на носилках куда требовалось. Работа была очень тяжелая. Но мы продолжали ее с большим одушевлением, без всякого принуждения, каждый для своего участка или для своего надела. Работали, конечно, здоровые и физически сильные. Работали иногда на спорт: кто сколько носилок снесет за день или за неделю.
Шея, руки, спина и все тело ныли после таких работ. Никакой другой работой заниматься было невозможно от усталости. Но зато сон после этого был удивительно крепкий и спокойный, что для нас и требовалось больше всего.
Известковый мусор мы тоже использовали.
Лучшие и крупные плиты отбирали. Они служили нам мостильным материалом везде, где хотелось выложить дорожку, чтобы она всегда была сухой в самую сырую осень.
Такие плиты я возил на тачке, чтобы было легче. Многие товарищи проявили тогда большие способности и старались сделать панель в роде как на Невском.
Все отбросы, которые никак нельзя было использовать, сваливались на дно глубокой шахты. Там на дне показалась вода, как в колодце, да и землю извлекать из большой глубины было очень трудно.
Если место такой ямы шло под посадку дерева, то мы оставляли яму глубиною в аршин. А выше засыпали уже рыхлой землей, просеянным мусором, перепрелым навозом, отжившими растениями и т. п.
43
44
В эту рыхлую насыпную массу мы ставили дерево и заделывали его как следует. Росли эти посадки превосходно, как в наилучшей почве.
Таким образом мы постепенно перевернули весь большой двор на большую глубину и получили почву, которая не была нам дана самой природой,
Так мы создали минеральную часть почвы и присоединили к ней в изобилии органическую часть.
Мы в конце концов получили настоящую почву, которая была пригодна для всяких культур, какие мы развели здесь, в своем застенке.
Мы ликовали и строили дальнейшие планы.
VI. Как мы ухитрились заменить солнце.
Конечно, речь будет не о самом солнце — оно слишком высоко и велико, а о солнечной теплоте.
Этой теплоты у нас было очень мало.
И в первые годы своего огородничества мы ясно это видели. С востока наши огороды затеняла огромная крепостная стена. Эта стена, промерзшая насквозь за зиму от северо-восточных ветров холодной Ладоги, дышала холодом до самой половины лета. С юга высокий забор бросал тень на половину огорода. А с запада стоял двухэтажный корпус тюрьмы, крыша которого подымалась гораздо выше крепостной стены.
Везде тень и тень! А нам нужно было солнце.
Высокие сугробы снега наметенные среди заборов, долго не хотели таять с наступлением весны. Лучи солнца ярко светили, но не там, где это нужно для наших посевов. А тут еще частые холодные ветры, — холодные и от того, что дуют с севера, и от того, что проносятся над большим ледяным полем Ладожского озера. С течением времени, когда товарищу Попову удалось приобрести настоящий термометр (градусник), он ежедневно сообщал нам его показания стуком в коридор. Таким образом, он приучил нас точно учитывать,
44
45
насколько ненадежна была теплота нашего солнца для наших земледельческих замыслов.
Мы знали уже, что весь апрель и почти половина мая (по старому стилю) не годятся для посевов. Растения, выращенные в это время, неминуемо замерзнут в открытом грунте. Да и почва еще не успела оттаять. А между тем чуть не каждый день над нами стоит ясное небо. И где-нибудь под защитой от ветра солнце сильно накаливает.
— Ах, если бы не холодные ветры!
— Ах, если бы земля была уже талая! Этого солнца хватило бы даже для скороспелых овощей.
Так мечтали мы с товарищем Лукой во время апрельских прогулок на четвертую весну нашей совместной жизни.
— Что делать? Как усилить теплоту солнца? — раздумывали мы.
У нас уже был некоторый опыт в огородничестве.
Нам было ясно, что если бы солнце нагревало землю под рамой, его нагрев был бы неизмеримо сильней. Нагретый под рамой воздух не уносился бы в сторону.
А что, если бы мы соскребли сверху талую землю и положили ее под раму? Она ведь скоро тогда прогреется. Затем просохнет и будет готова к посеву.
Наконец, где-то мы слышали, что гниющий навоз «горит» и при этом сильно греет.
Почему бы и нам не испытать на деле всех этих догадок и соображений?
Неумелыми руками я обтесал в мастерской три широких дровяных плахи в 2 1/4 аршина длиной и сделал из них три толстых доски. Из них я сбил длинными гвоздями ящик без дна. Принес в огород и установил над продолговатой ямой, в которую перед этим мы положили коровий навоз. Этот навоз мы достали на острове у одного жандарма, который держал корову. На навоз положена была только-что растаявшая земля.
45
46
Но какой рамой покроем мы ящик?
Этого придумать мы никак не могли и потому решились вот на что. В мастерской я сделал тонкую рамку по размеру ящика. Натянул на нее, при помощи гвоздиков, два больших листа белой бумаги и промазал бумагу олифой (вареным маслом). А когда она просохла, я вынес в огород, накрыл ящик, а на другой день посеял в нем редис. Это было в половие апреля старого стиля.
Ни один огородник не мог сеять так рано!
Редис быстро пророс, и я изо дня в день замечал, как сильно прогревается почва в моем ящике.
Когда же 9 мая мы сорвали несколько первых редисок, нашему восторгу не было границ. У товарищей будет редис только через месяц! Мы восторгались не только тем, что имели редис раньше их, но и тем, что победили природу и заставили ее служить нашим целям.
Теперь перед нами была задача: найти раму со стеклами.
Но где взять?
Переговоры с начальством о новой раме и о навозе начались у нас еще зимой. Смотритель охотно обещал достать раму из какой-то старинной башни, где она праздно стояла за выслугой лет. Но с навозом было труднее. Доступ на наш остров был труден почти целую зиму. Прямой дороги в город, из-за быстрого течения, не было На лошади нужно было ехать в объезд. Но и этот путь надежен только после суровых морозов.
Мы стали ждать. И действительно, к концу марта нам доставили прямо к дверям огорода несколько возов настоящего конского навоза. Для него еще с осени заготовлена была в огороде яма.
Была добыта, наконец, и рама. Под нее приспособлен был сруб (подрамник). Мы положили раму на место и стали наблюдать, как греет под ней солнце. Термометр показывал до 40° К.
46
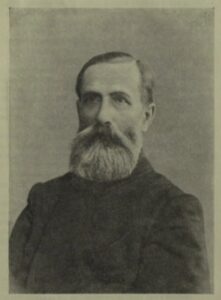
ПОПОВ, МИХАИЛ РОДИОНОВИЧ
Родился в 1851 году. Вскоре после поступления в университет присоединился к революционному кружку «Земля и Воля”. После ее разделения на «Народную Волю» и «Черный передел» он присоединился к после нему и был одним из самых деятельных его членов. Арестованный в Киеве, он был осужден на смерть, в декабре 1880 года сослан на каторгу в Сибирь на Кару. За неподчинение тюремному начальству был выслан оттуда в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, а затем переведен в Шлиссельбург. После освобождения из этой крепости в 1905 году, он поселился сначала на юге и умер, не. дождавшись революции.
Николай Морозов.
49
В этом парнике мы стали сеять на две недели раньше. Успех получился блестящий. У нас был не только ранний редис, но и всякая ранняя рассада. И не только огородная, но и цветочная.
К этому времени мы добились того, что нам разрешили сеять самим все, что мы захотим. По каталогам, которые мы достали, мы стали выписывать через жандармов все, что было нам угодно.
Мы гордились своим успехом, но все-таки не переставали желать лучшего. В нашем огороде не было ни одного участка, который освещался бы солнцем дольше четырех часов. А этого слишком мало. Навоз греет прекрасно. Но было бы еще лучше, если бы при этом нагреве можно было использовать все то солнце, которым мы можем располагать.
Этого солнца надо было искать не в тесных огородах, а в просторном большом дворе. Здесь парники можно было расположить не в пяти саженях от стены, а в двадцати пяти. Здесь солнце будет освещать парник шесть-семь часов в сутки, а то и больше.
Первым выселился сюда товарищ Попов. Он заложил первый парник не в 2-3 квадратных аршина, а в 20-25.
Вслед за Поповым на следующую весну сюда потянулись и другие товарищи со своими парниками. Парники пристраивали друг к другу вплотную, пока на одной площади не накопилось до тридцати рам. Здесь солнце сразу нагревало большую площадь. И каждый парник нагревался не только своим навозом, но и от соседних парников.
Таким образом, нам удалось сократить суровую зиму почти на два месяца. Наша весна здесь начиналась уже в начале марта. И мы заставили вырастать под нашим северным небом такие овощи, которые растут только на юге.
Однако, старый наш парник в огороде все-таки не был забыт. Мы поддерживали его попрежнему, но
49
50
уже не для ранних посевов. Теперь мы выращивали в нем луковичные растения: гиацинты, тюльпаны, нарциссы, крокусы и др. Из года в год мы покупали по нескольку луковиц и сажали их осенью для ранней выгонки в холодный парник, т. е. в парник, в котором был перепревший навоз.
Луковицы развивались всю зиму под досчатым щитом, который сверху заносило толстым слоем снега.
И вот, в начале апреля, когда устанавливались солнечные дни, мы сбрасывали начисто снег с парника, открывали щит и находили в парнике молодую луковичную поросль. Парник мы закрывали рамой, и растения под лучами солнца в два-три дня начинали зеленеть и скоро зацветали.
Кругом еще снег или весенняя гололедица. С озера дует ледяной ветер. Иногда тронувшийся лед ясно шуршит за крепостной стеной, ломаясь о прибрежные камни. А у нас уже весна! У нас ярким ковром в парниковом срубе расстилаются живые цветы и разносится опьяняющий запах гиацинтов.
В тюремной обстановке, на привычном сером и унылом фоне, наши подснежные цветы составляли исключительно живописную и очаровательную картину. Они радовали наши взоры и сердца и вносили разнообразие в монотонную жизнь. Мало того, они являлись в то же время нашим торжеством над суровой природой, которая сама без нашего участия не могла дать ничего подобного.
50
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
VII. Мы создаем живую природу.
Я только-что рассказал, как мы создали уголок живой природы, которая расцветала почти из-под снега. Но для нас этого было слишком мало.
Огород, это еще не природа! Огороды прятались за толстыми, плотными и высокими заборами. А кругом не видно было ни кустика, ни деревца, ни зелени.
Наши дворики для прогулок продолжали оставаться пустыней. Только теперь здесь появилась веселая травка, которую перестали искоренять, как это делали в первые годы.
С самого начала нам недоставало свежих овощей. От этого мы стали болеть цынгой.
Но точно так же нам недоставало и фруктов и ягод. Давно уже известно, что цынгу лечат лимонным соком. А лимонная кислота находится во многих ягодах.
Вот почему вначале, пока мы не развели своих ягод, мы были особенно жадны до клюквы. Никогда, ни прежде ни после, я не был любителем этой чрезвычайно кислой ягоды. Тогда же мы истребляли ее с каким-то странным наслаждением и даже совсем без сахару.
51
52
Такова была причина нашего нового увлечения ягодным садоводством.
Из ягод мы развели у себя: полевую землянику, клубнику, малину, крыжовник, барбарис и все три сорта смородины. Из кустарников была даже редкая ягода — облепиха.
Некоторые из этих кустарников, как малина и черная смородина, всегда любят полутенистые места. Поэтому под нашими заборами они развивались особенно успешно. Вырастая в рост человека и даже, больше, они своими верхушками легко достигали свободных лучей солнца и потому не могли страдать от тени.
Кусты стали покрываться ягодами. И мы с огромным интересом следили за тем, как одна за другой появлялись клубника, смородина, малина… Эти давно невиданные ягоды волновали нас необычайно. И мы, как дети, лакомились какой-нибудь горсточкой ягод с особенным наслаждением.
Со временем мы их размножили, и ягоды вошли в привычку.
Настала очередь и для декоративных растений, и прежде всего цветущих. Из кустарниковых здесь на первом плане стояли розы. Этих роз мы развели много сортов. И поздней весной у нас пышно расцветали самые разнообразные бутоны на розовых кустах: желтые, белые, бледно-розовые, ярко-розовые, пунцовые и т. д. Кусты роз перемежались с белыми цветами жасмина (чубушника). А раньше всех в изобилии цвела сирень.
Любители роз ухаживали за своими кустами с чрезвычайным вниманием. Каждый старался, чтобы именно у него, а не у другого, распустились первые розы. Спорили, горячились, держали пари, чья роза будет первой.
Все это вносило в нашу маленькую общину столько
52
53
страсти и оживления, сколько можно найти только на спортивных площадках.
Всякий кустарник, который мы сажали в рыхлую и хорошо удобренную почву, сильно разрастался. А затем старался перелезть через забор. Молодые побеги мы рассаживали в виде отводков туда, где еще было место. Таким образом, наши кустарники, несмотря на запоры, заборы и другие преграды, расползались по всей территории нашего застенка, не оставляя нигде свободного места. Жандармы тоже вносили в наши насаждения свое содействие. Если какой-нибудь куст им почему-либо не нравился, они тайно, в наше отсутствие, подливали под корень кипятку. И через несколько дней хозяин, лелеявший свой кустарник, замечал, что его насаждение быстро и без всякой причины засыхает.
За кустарниками следовали деревья. Не сразу мы решились сажать их. Деревья растут очень долго. Нужно ждать десяток лет, а то и два, чтобы получить хорошее дерево.
Но нашлись все-таки любители, которые не смутились этими соображениями.
Без взаимного сговора, один за другим, наши любители растений потянулись и за древесными насаждениями. По нашей просьбе, жандармы привозили откуда-то осенью то одно, то другое молодое деревцо, а мы подыскивали подходящее место и насаждали, один за другим, новые экземпляры древесных растений.
Прошло пять лет. В нашей монотонной и бессрочной жизни пять лет — сущие пустяки. Но теперь кругом нас была уже другая картина. Посмотришь: то там, то тут над нашими заборами высится ярко-зеленая, раскидистая крона одного, другого, третьего дерева.
И все это дело наших рук! Мы торжествовали.
53
54
В первую очередь появилась наша родная русская береза, без которой не обходится на севере почти ни один лес.
Одновременно с нею так же быстро развилась рябина, то белевшая крупными кистями цветов, на которых звонко гудели шмели, то рдевшая крупными кистями ягод, которые до самого снега красовались на ее высоких, раскидистых ветвях.
Потом пошли душистые тополи, широколистные, бледнозеленые клены. И, наконец, были посажены’ вечно зеленые, угрюмые и задумчивые ели. Одну из них сажала Вера Николаевна Фигнер, а я, по ее просьбе, копал посадочную яму.
— Смотрите, — наказывала она мне, — копайте яму глубже и шире. И дайте хорошей земли, чтобы ель выросла большая пребольшая!
И действительно, она посажена была на славу и росла прекрасно лет десять, заметно увеличиваясь с каждым годом.
Я назвал только немногие кустарники и деревья. На самом деле их было гораздо больше.
Но вся масса растительности состояла не из них. Это были многочисленные травянистые и цветочные насаждения. Их теперь нам легко было разводить, потому что по каталогу можно было выписать пакетик семян любого растения, а в парниках легко было выгнать для посадки любую рассаду, хотя бы самого нежного растения.
На каждом свободном и освещенном клочке земли красовался какой-нибудь новый оригинальный вид цветочного растения. Он хорош был уже тем, что его у нас раньше не было и его мы ни разу в жизни не видали.
Всех их перечислить невозможно. Из крупных и более известных цветочных растений я назову: ирисы, шпажники, шток-розы, левкои, георгины,
54

ФИГНЕР, ВЕРА НИКОЛАЕВНА
по мужу Филиппова, родилась в 1852 году в имении своего отца в Казанской губернии. Окончив Казанский институт, вышла замуж и уехала в Швейцарию, где поступила в Цюрихский, а потом перевелась в Бернский университет. Когда ее подруги в России были арестованы, она возвратилась в конце декабря 1875 года продолжать их дело и стала одним из самых деятельных членов Исполнительного Комитета «Народной Воли» и «Военной организации». Осуждена на смерть военным судом 28 октября 1884 года и заточена пожизненно в Шлиссельбургской крепости. Через 20 лет, в 1904 году, по ходатайству матери и брата вышла из Шлиссельбурга и была сослана в Архангельскую губернию. Со времени революции живет в Москве, где написала свои воспоминания: «Запечатленный трудя, «Шлиссельбургские узники» и др.
Николай Морозов.
57
маки, дельфинии, флоксы, душистый горошек и пр.
Вкусы у каждого из нас были различны. А на своем надельном участке каждый мог сеять все, что ему угодно. Поэтому, в конце концов, каждый огород и каждый дворик оказался особым уголком природы, в котором был своеобразный растительный мир, подобранный по вкусу своего хозяина.
Если бы мы составили карту растительных сообществ, которые были разведены в наших владениях, то мы получили бы своеобразные Соединенные Штаты. На всей же территории получилась такая разнообразная зеленая природа, которую можно встретить только в ботаническом саду.
Сидишь, бывало, в своем уголку в глубокой задумчивости. Начало лета. И вдруг замечаешь: то привычный шелест березы, который уносит тебя мечтой в другую, давно ушедшую, жизнь, где слышен был такой же шелест беспечной березы. То раздастся гудение пчелы, привлеченной в наш цветник медоносными запахами. Либо короткая трель зяблика, залетевшего на вершину одного из наших деревьев.
То вдруг, вместе с легкой струйкой ветерка, доносится откуда-то аромат розы, либо жасмина. И вновь воображение унесет тебя куда-то в далекие края, где в совершенно другой обстановке другие, свободные розы испускали такой же очаровательный аромат. А трели зяблика были более радостными. И даже пчелы жужжали веселее.
Очнувшись от своей задумчивости и вглядываясь в окружающую нас природу, мы сами удивлялись и спрашивали себя:
— Неужели это тот самый застенок, в который мы вошли лет семнадцать-двадцать тому назад? Как здесь тогда было все пусто, все мертво! Тогда над заборами носилось дыхание пустыни. Тогда здесь
57
58
человеческому глазу не на чем было остановиться, кроме унылого серого камня. И до слуха заключенных не долетали никакие звуки, напоминающие обыкновенную живую природу.
— И неужели, действительно, все эти разнообразные и пестрые краски природы, вместе с живой растительностью, созданы нашими собственными руками, совершенно добровольным трудом? Нашим трудом, в котором не было никакой корысти и при котором единственным побуждением было стремление к лучшему!
VIII. В поисках за живой природой.
После того как мы стали выписывать семена сами и запаслись каталогами от разных магазинов, мы могли спать спокойно. Теперь мы могли выращивать все, что там продается. Но этого нам было .мало. Мы были ненасытны. К тому же мы увлекались ботаникой и гербаризацией. А для этого надо было иметь как можно больше разных видов растений.
Но ведь так называемая дикая природа не размножается при помощи магазинов. Попробуйте-ка там найти, например, какую-нибудь веронику дубровку — ранний голубенький полевой цветочек.
Мы это знали и потому несколько растений нам удалось получить от наших жандармов. Если растение встречалось часто на поле, или на болоте, и имело заметный вид, то они находили его по нашему описанию и приносили с корнями. Так, например, принесли богульник, чернику и др.
Но таких растений все-таки было мало. И мы искали их различными способами всюду, где только могли.
В первую же весну для парников нам понадобилась ржаная солома, из которой мы хотели сделать
58
59
маты (соломенные щиты), закрывать раму на ночь от холода.
Жандармы привезли два-три пуда соломы и сложили в пустую камеру. Мы заготовили веревки и ножницы и пошли в эту камеру вязать маты, и нас заперли.
Вид ржаной соломы уносил наши мечты к тем местам и к тем временам, когда перед нами развертывались картины вольной сельской жизни и мы не знали, что такое неволя.
Запах ржи кружил нам голову и еще сильнее уносил наши мысли к тем ржаным полям, которые когда-то расстилались перед нашими взорами и создавали впечатление довольства и благополучия.
Мы ушли с головой в эту нетрудную работу и, закончив ее, связали два мата, свернули их в трубку и поставили в угол. На полу оставался мелкий мусор, который могли подмести и без нас. Но мы, имея свободное время, решили обследовать и его.
Ползая на коленях, мы самым внимательным образом осматривали мусор и искали, нет ли и тут семян.
— Вот, посмотри-ка, — вдруг вскрикнул Лука, взяв на ладонь одно семечко.
Я смотрю и вижу знакомца:
— Да это василек!
И действительно, это было семечко василька. За ним еще легче нашли более крупное и черное семя куколя. А затем, видя, что всяких семян здесь оказалось много, мы смели в одну кучу весь мусор, тщательно собрали его в тряпку и вынесли в огород. Там мы отвели небольшой участок под «полевую культуру» и посеяли весь мусор вместе.
В течение лета все это у нас зацвело. И мы нашли в своем огороде, кроме цветов василька и куколя, много разных злаков (метелка, костер, тимо-
59
60
феевка), затем ромашку и даже два анютиных глазка, клевер, и тоже два, белый и красный, и еще кое-что.
Словом, совсем случайно нам удалось перенести в свой тюремный уголок кусочек поля.
Когда нам надо было прикрыть клубнику на зиму от вымерзания, мы затребовали для себя мху.
Жандармы достали его где-то из ближайшего болота и доставили нам прямо в огород.
Жадные до всего нового и наученные предыдущим опытом, мы поступили с ним так же, как с соломой, — то есть разобрали весь мох по горсточкам.
В привезенной куче оказалось очень много разных видов мха. Из них мы составили специальный гербарий мхов. Семена, которые здесь попали нам, мы отобрали для посева. Корневища тут же зарыли в землю на новом «болотном» участке, который обложили мхом. А несколько лишайников, которые оказались случайно, пошли для другого гербария.
Кроме того, неожиданно для нас мы нашли здесь несколько личинок и куколок живых насекомых. Мы решили воспользоваться и этим материалом. Личинки и куколки вместе с маленькими кусочками мха положили в жестянку от консервов, а жестянку поставили в прохладное место для зимовки. Весной получились из них полные формы насекомых.
Так незаметно от поисков за природой мы перешли к консервированию найденных образцов.
Чтобы пополнить наши гербарии всеми видами лишайников и мхов, мы с Лукой искали их всюду, а особенно на дровах, которые привозили к нам на большой двор. Здесь эти низшие растения отлично сохранялись. В осенние же дожди еще больше развивались. Богатые коллекции лишайников были собраны, главным образом, здесь, а также на гниющих крышах наших заборов.
60
IX. Цветы в стенах тюрьмы.
Цветы в тюрьме, да еще зимой, это можно назвать невиданным зрелищем. А особенно такие, как гиацинты и ландыши. Да еще собственной выгонки!
Но, как это ни странно, несмотря на все лишения и ужасы, которыми нас окружало начальство, цветов оно никогда не запрещало. Разве только в первый год. Как только были устроены огороды, и жандармы их засадили овощами, они же сами посадили под забором и скромные цветы: флоксы, маргаритки, анютины глазки.
Бывало, в конце лета, сорвешь три-четыре цветочка, принесешь в камеру и поставишь в кружку с водой. И в пустом каменном мешке точно луч солнца заблестит. Словно кто-то близкий улыбнулся тебе. И как-то радостнее станет в нашем мрачном, унылом жилище.
В 1889 году летом приехал к нам новый министр (Дурново, И. Н.). Он зашел в мою камеру и очень удивился, увидав живые цветы на столе. Это был единственный предмет, который бросался в глаза и привлекал к себе взоры. Увидал и невольно воскликнул
— И цветочки!
Повидимому, он хотел прибавить:
— Так они здесь неуместны!
Но так или не так, а цветы все-таки были нашей слабостью. С первых же лет и до конца мы не расставались с ними. Как-то мы заняли даже окно в коридоре тюрьмы, и здесь я вырастил горшечное лимонное и апельсиновое дерево и две финиковые пальмы.
Но зимой нас неожиданно удивил Лука. Никому не сказав, он выписал осенью из магазина несколько цветочных луковиц, а одну луковицу гиацинта пустил на выгонку. Когда, в конце февраля, гиацинт начал
61
62
цвести, он выставил его на окно коридора. Сильный аромат его разносился далеко и поразил нас неожиданным появлением. Для нас это было приятным сюрпризом!
После мы уже привыкли к этому, так как не раз занимались выгонкой. Чуть не каждый год выгоняли луковицы, которые цвели у нас в течение полутора последних зимних месяцев.
Таким же образом, но только позднее, мы выписали корневища ландышей. За несколько лет в огородной тени они сильно разрослись и давали мне прекрасный материал для зимних выгонок.
Выгонять их труднее, чем гиацинты, потому что нужно, во-первых, проморозить, а во-вторых, прогреть хорошенько. Единственное место в камере для нагрева был маленький калорифер.
А чтобы было еще теплее и светлее, я подвешивал над самым горшком электрическую лампочку с железным абажуром.
И я так наловчился в этом деле, что мог приготовить цветущие ландыши к любому дню по заказу. Обыкновенно я выгонял к новому году или к именинам, чтобы так или иначе отметить эти дни в нашей тоскливой жизни.
И вот, представьте себе.
Глухая, мертвая тюрьма. Зимняя стужа. В стенах ни звука. Вечер. Мертво, как в могиле. Только за окном завывает вьюга, либо потрескивает от мороза ближайший угол здания. А посреди стола, покрытого белой скатертью, стоит в оригинальной рогожке цветочный горшок, полный ландышей!
Их свежий вид и тонкий, нежный аромат составляют резкий контраст с тюремной обстановкой и говорят узнику:
— А все-таки жизнь возьмет свое. И жизнь эта отчасти находится в ваших собственных руках,
62
X. Свежие грибы.
Грибы являются как бы проявлением полноты жизни в природе. В настоящих лесах и в лесных полях грибы являются в большом разнообразии.
На нашем известковом мусоре, конечно, было не место грибам. Но когда мы хорошо возделали и удобрили почву, грибы стали у нас появляться сами собой.
Убедившись в том, что они безвредны (после обварки кипятком), мы жарили и солили их и, таким образом, разнообразили свой стол.
Но все-таки это был не тот гриб, какого бы нам хотелось. Из руководства по огородничеству я узнал, что грибы, именно шампиньоны, можно разводить. И, не долго думая, решил использовать эту новую культуру и у нас.
Дело было несложное. Нужно было выписать из семенного магазина только сушеную грибницу на разводку. А конский навоз для питания и для согревания у нас был. Стоило только не зарывать его в парник.
И вот я расположился в уединенном уголку коридора старой тюрьмы, где мы сохраняли часть зимующих цветочных растений. Здесь я поместил высокий, более одного аршина, ящик, набил его чистым, отборным конским навозом (без подстилки), поверх его разбросал куски сухой грибницы и слегка засыпал новым навозом.
Недели через три я попробовал раскопать навоз. Наощупь он был совершенно теплый. И вдруг я увидел, что темнокоричневая масса навоза вся пронизана свежими ярко-белыми нитями, которые ветвились по разным направлениям. Это и была желанная грибница шампиньона. Я убедился, что и она может расти в нашем холодном столетнем каземате.
Я сейчас же насыпал поверх навоза небольшой слой рыхлой земли и стал ждать, что будет дальше
63
64
с моими шампиньонами. Мне никогда не приходилось выращивать, их и потому все в этой работе было для меня ново. Ждать мне пришлось не меньше месяца, и каждую неделю я с нетерпением заглядывал по утрам в свой ящик все чаще и чаще.
Наконец, в один прекрасный день я вижу, что земля в двух местах как будто вздулась. Я взял маленькую палочку и попробовал слегка раскопать это место. И вдруг увидал круглую, упругую серую шляпку гриба.
Я ликовал. Несомненно, грибы у меня будут. И я получу, наконец, то, чего нам еще не хватало, — я получу настоящие, вкусные грибы! В роде тех, какие я с таким удовольствием собирал по лесам в свои юные годы.
Через три дня у меня была готова настоящая порция прекрасных свежих и вкусных грибов. Ее я приготовил на той же самой плите, где мы в это время сами разогревали себе столярный клей. И товарищи, которым удалось тут попробовать их, очень хвалили мою новую «культуру».
Теперь почти до самой осени я делал новый сбор грибов в своей живой «кладовушке».
Вместе с грибами, которые у меня стали «сами расти», я внес в свой застенок и те самые бесконечные леса, которые мне были так знакомы с детства. Этих лесов не могли заменить наши одиночные деревья и кустарники, несмотря на то, что они составляли для нас прекрасный уголок живой природы.
Эти леса, увы, теперь я мог видеть только в мечтах. Мечты эти с такой живостью вспыхивали каждый раз, как я раскрывал свою грибоводню, и, казалось, обдавали меня запахом настоящего живого леса, который манил меня к себе.
Таким образом, я насадил новую культуру. Я внес новые растительные формы. А вместе с этим оживил
64
65
и свои воспоминания об лесе. Они были так ярки, точно вместе с грибами я развел и самый лес, в котором они росли.
Я был очень доволен.
На следующий год у меня было уже новое увлечение, и я больше не возвращался к разведению шампиньонов.
XI. Южные овощи: помидоры, арбузы и дыни.
В то время, о котором я говорю (начало девяностых годов), помидоры в Петербурге были редкостью. Перевозить их с юга еще не умели, а разводить на месте считали невозможным, потому что здесь не было необходимого для них тепла. И лично я, будучи северянином, никогда не видал, как растут помидоры.
В нашей среде были, правда, товарищи-южане, которые с помидорами были знакомы. Но и они, как и мы, одинаково не знали, выйдет ли что-нибудь на нашем острове, если мы их посеем у себя.
Попробовать было можно. Парники уже вошли в нашу практику.
После опыта первых лет мы узнали, в какое время и каким образом лучше всего высаживать помидоры из парника, чтобы они не пострадали от холодной погоды.
Для высадки нужно было выбрать пасмурную, но теплую погоду, когда уже прекратились весенние утренники. Погоду и время мы угадывали по наблюдениям. Чтобы не повредить корней при пересадке, мы запаслись настоящими цветочными горшками.
Помидоры мы пересаживали уже при начале цветения и выбирали для них место у солнечного забора. Здесь они скоро давали цветы и первые завязи. Все излишние побеги и поздние цветы мы обрывали, а рано завязавшиеся плоды росли все лето и к осени
65
66
начинали созревать. Срывали мы их не вполне созревшими и складывали в камере на солнечном окне, где они быстро дозревали. Даже самые поздние плоды, собранные зелеными, дозревали здесь, но уже в начале зимы.
И вот, несмотря на то, что мы жили очень и очень далеко от горячего юга, мы три месяца довольствовали себя свежими помидорами и могли изготовлять настоящие малороссийские борщи.
Позднее я узнал, что, по нашему примеру, помидоры стали разводить и в городе.
С арбузами и дынями дело было сложнее, потому что на воздухе Ладожского озера для них было очень холодно. Им требовалось больше тепла. Их нужно было оставлять на почве того самого парника, где росла их рассада, и где лежал теплый навоз.
Сверху тепло и снизу тепло — вот что требовалось для наших сочных и сладких арбузов и дынь.
Но самое главное — для них требовался надлежащий простор. Эти крупные растения и их длинные стелящиеся стебли (плети) занимали очень много места. Местом же в парнике мы очень дорожили. Ради двух-трех дынь и арбузов приходилось изгонять из парника другие растения, а в том числе и огурцы. А нам надо было выращивать много огурцов, чтобы заготовить впрок на целую зиму. На открытом же воздухе они у нас развивались очень плохо.
Поэтому вся работа по выращиванию дынь и арбузов велась только любителями и была работой на спорт.
— Смотрите, ребятушки, какой я выращу замечательный фрукт!
И если этот фрукт выходил удачно, если дыня и арбуз оказывались сочными и сладкими, они объявлялись рекордными. А рекорд на нашем необитаемом острове был все равно, что всемирный рекорд,
66
67
так как никакого другого мира, кроме нашего, для нас не существовало!
И надо было видеть ту гордость и то ликование, с каким наш товарищ Попов, первый у нас арбузовед, появился в компании трех других товарищей со своим первым арбузом. Только тогда можно было понять, какого труда стоила ему эта необыкновенная выгонка.
Не одну бессонную ночь провел он прежде, чем в тиши уединения обдумал все те неожиданные невзгоды, которые могли угрожать его смелому предприятию.
Теперь вы сами поймете тот необыкновенный восторг, с каким «дынных дел мастер» при всей нашей компании разрезал и разделил между нами свою первую дыню. Мы должны были с чувством, с толком, с расстановкой, в его присутствии, вкусить и убедиться, как ароматна и вкусна эта дыня и насколько она похожа на настоящую, выращенную где-нибудь под горячим солнцем юга.
Мы пробовали дыню, наслаждались ею, поздравляли автора с успехом и подтверждали, что он, действительно, побил рекорд, и что его успех является несравнимым в нашей общей огородной практике.
Это он, Попов, сумел принести сюда частицу южного жара. Это он вырастил плод, который без него не мог бы появиться на нашей почве. Очевидно, этот человек может прокладывать новые пути везде, куда бы не забросила его судьба, и создавать там самые необыкновенные вещи.
— Умри, Денис, ты лучше ничего не вырастишь!
Здесь мы были одни во всем мире и награждали за успехи, как умели.
XII. Как тюрьма закурила.
Для привычного курильщика нет тяжелее лишения, чем лишение табаку. И те, кому долго приходи-
67
68
лось жить под замком, или в окопах, отлично знают, какие страдания испытывают люди, вынужденные оставаться без курения.
Лучше совсем не привыкать к этому зелью. А кто уже привык, тому никак не обойтись без него.
Наши курильщики жили взаперти без табаку, кто семь, а кто и десять лет. За это время они могли бы совсем забыть про него. Но это было не так. Курить хотелось, и они часто задумывались, где бы и как достать курева.
А у нас не было ничего подходящего. Самый табак был запрещен. Запрещены также и спички.
Запрещенный же плод всегда сладок.
Понятно, что, как только мы сами стали выписывать различные семена, курильщики первые надумали, нельзя ли незаметным образом выписать семена табаку и вырастить его в огороде, среди других цветов
Вышло так, что одно цветочное растение под названием «никоциана» мы уже выписывали. Табак по-латыни тоже называется никоцианом, но только другого вида. Мы воспользовались таким совпадением и выписали его под этим названием, написав его, как и другие, по-латыни.
Получили семена и вырастили рассаду в парниках. А затем посадили ее пореже на просторном месте, где побольше солнца. Лето было теплое, и растения развились превосходно. Наша стража, которая за всем следила, совсем не обратила внимания на новое растение. Ведь их было так много, что не различить. Да многие жандармы и сами никогда не видывали, как растет табак.
Наши проводники новой культуры горячо принялись за работу, тщательно окапывали свои драгоценные растения, разрыхляли почву, поливали удобрительными жидкостями и всячески ускоряли и улучшали их развитие.
68
69
И они могли гордиться: табак был ростом не меньше, чем тот, который выращивается в Крыму.
Но вот лето кончилось. Наступает самый критический момент. Надо собрать урожай, устроить морение табака, а затем сделать окончательный шаг и высушить его. Табаководы волнуются, потому что все это надо сделать так, чтобы не выдать своего секрета жандармам. Но к этому времени жандармы присмотрелись уже к разным нашим выдумкам и считали их глупыми или никчемными. Поэтому они не обратили никакого внимания на сбор табака.
Зато можете себе представить тот переполох, который поднялся среди дежурных, когда наши табаководы, точно по взаимному сговору, в один прекрасный день закурили по своим камерам.
Легкая струйка табачного дыма несется в коридор то из одной камеры, то из другой. И в коридоре, где никто не смел курить, вдруг появляется отчетливый запах табаку.
Дежурные не знали, что делать, откуда идет табачный дым, и бросились осматривать все камеры (в глазок, который сделан был в двери). Тут они увидали, что некоторые заключенные курят.
Откуда у них табак? Как они, дежурные, могли допустить, чтобы кто-то купил для заключенных или дал им табак, несмотря на строгое запрещение.
Немедленно был дан тревожный сигнал к начальству. Пришли вместе комендант и его помощник (смотритель), отворили первую дверь, вошли в камеру, понюхали. Накурено!
— Откуда у вас табак?
— Свой, — отвечает курильщик.
— Как свой? Что это значит?
— Значит, что я посеял табак в огороде и собрал его. Другие товарищи сеяли репу и морковь, а я — табак. Кому что важнее.
69
70
Зашли к другому, третьему и везде получили одинаковые ответы. Что делать? Как быть? По общему правилу, заключенные имеют право пользоваться продуктами своего труда. Тем более — продуктами огорода. Отнять у них табак силой? Можно вызвать настоящий бунт!
Поехали нарочно в Петербург к высшему начальству и получили мудрое решение:
— Разрешить заключенным курить табак в такой-то норме и выписать прямо из магазина.
Мы победили…
Но я не сказал еще, откуда достали спичек.
Здесь пришлось пустить в ход всю нашу изобретательность прежде, чем мы приспособили самодельное огниво и к нему самодельный трут. И наши курильщики потрудились немало. Особенно долго искали они при наших землекопных работах подходящие куски кремня.
И всегда находили!
Но когда разрешили казенный табак, то заодно разрешили и спички.
Так кончился сам собою наш краткий «каменный век» и высекание огня из камня. Он продолжался не больше полугода. Виновником был табак. Огонь без табаку нам совсем не был нужен. И над тем, как добывать его, прежде мы никогда не задумывались.
А тут задумались впервые. Нужда родит изобретательность. Изобретатели появились сами собой и пошли как раз по тому пути, по какому шли все первобытные люди при добывании огня.
И нам, и им добыть искру иначе было невозможно.
XIII. Семечко в старой книге.
Лесная или полевая земляника появилась у нас не совсем обычным путем.
70
71
На нашем острове не было ни одного кустика. Да мы и не могли искать ее за пределами нашей ограды.
В продаже ее не было. Попросить жандарма принести с соседнего песчаного берега хотя бы один кустик земляники нам не пришло в голову. Так мы и жили бы без нее, если бы не одна счастливая случайность.
Однажды в марте месяце мой товарищ Лука читал старый том исторического журнала «Русский Архив». Пробегая строки, он заметил среди букв маленькое семечко, которое плотно прилипло к странице. Он отлепил и, рассматривая семечко, соображал:
— Чье бы это могло быть?
Но чье именно, он не знал.
— Дай-ка, — подумал он, — я посею его: может-быть, что-нибудь и выйдет!
Сказано — сделано.
Горшок с посеянным семечком довольно долго оставался в камере под постоянным наблюдением. Лука уже начал терять надежду, как вдруг в одно ясное утро заметил, что на месте семечка как будто появляется всход.
Прождав еще две недели, пока всход обнаружит себя, и не дождавшись этого, он вынес горшок в огород и поставил его при мне в парник. Теперь мы стали следить за ним вдвоем. Через неделю, под лучами солнца, мы получили четвертый листик нашего ростка и, рассматривая его, в один голос воскликнули :
— Ба, да это земляника! И притом лесная!
Я взял теперь кустик на свое попечение и, когда он подрос, высадил его на свободу в грунт. К осени он стал уже большим кустом, но не зацвел.
На следующее лето я получил уже с него первый сбор — дюжины две ягод настоящей душистой земляники, которой я не едал уже лет девять. Но, самое
71
72
главное, я получил полдюжины длинных плетей, на которых было не меньше пятнадцати молодых побегов. Я укоренил их в почве.
Они хорошо перезимовали, и на следующий год их получилось больше ста шестидесяти штук, т. е. целая плантация лесной земляники.
Дальше я перестал считать кусты, перестал размножать побеги, обрывал их и пускал кусты не на размножение, а на цветение.
На жирной, удобренной почве земляника усиленно цвела. И моя плантация забелела цветами. С конца июня и до конца августа цветение шло непрерывно. И непрерывно же появлялись ягоды.
Через день, иногда через два, я регулярно собирал их. К тому времени, когда подавали чай, набрав полкружки самой свежей и чистой земляники, я шел в камеру наслаждаться чаепитием.
И никогда больше, ни до этого ни после, мне не удавалось пить такой ароматичный и приятный чай.
Мне и теперь кажется, что чай с лимоном никаким образом не может заменить того необыкновенного чая со свежей земляникой, который я имел тогда в заточении. И притом таким удивительным образом— от одного какого-то завалявшегося семечка!
Кто и когда мог есть землянику над раскрытой страницей «Русского Архива» и обронить над ней это единственное семечко?
И знает ли тот читатель, какую историческую роль сыграло это семечко и что оно дало нам в нашей замкнутой и одинокой жизни?
XIV. Ягоды и фрукты.
Фруктовые деревья мы стали сажать очень поздно. Не хотелось ждать после посадки целых пять лет пока дерево начнет плодоносить как следует.
72
73
Независимо от своего сада, после того, как нам стали платить за наши работы, сделанные по заказу, мы могли покупать понемногу всякие ягоды и фрукты, а также книги и съестные припасы. В Музее Революции до сих пор хранится большая коллекция семян и плодов, изготовленная тогда В. Г. Ивановым. По ней можно прекрасно судить, в каком разнообразии проникали к нам всякие плоды (фрукты и ягоды).
Увидав такую коллекцию, иной скажет, что мы были настоящими лакомками. Но этого, конечно, не было. Вкусы наши были не избалованы, да и средства не позволяли. А если нам хотелось попробовать и того, и другого, то это только потому, что нам хотелось прежде всего видеть новые и новые предметы. Нужно было насытить наш зрительный голод.
Глядя на ящик с коллекциями плодов, мы воображали себя в большом гастрономическом магазине.
Получив однажды виноград, мы смотрели на него, пробовали и смаковали как величайшую редкость. И неудивительно! Иные товарищи не видывали его больше пятнадцати лет.
Ко всяким плодам мы стремились инстинктивно. Мы получали в них ту естественную прибавку к пище, какая повелительно требовалась для того, чтобы организм наш оставался в нормальном состоянии. Ведь ежедневная казенная пища была и скудна, и однообразна, и малопитательна.
Вот почему, когда впервые появились ягоды, мы потребляли их сразу. И только потом стали задумываться, как бы распределить их на целый год. Для этого мы покупали на рынке чернику и сушили. Свою малину также сушили.
Получив как-то один фунт винограду, я высушил даже и его, правда не полностью, а полкисти. В вентиляторе у нас постоянно был «вольный дух»,
73
74
а потому изюм у меня вышел превосходный. И я думал при этом:
— Ах, почему наш остров не лежит под южным небом? Там было бы много винограда. И я, как настоящий Робинзон, насушил бы его хоть целые пуды!
Но, кроме этого, из ягод мы варили варенье и оставляли его на зиму и для всяких торжественных случаев.
Варкой варенья занимались, кажется, все без исключения. Иной раз летом, в ягодный сезон, наша плита представляла необыкновенное зрелище. Она была вплотную уставлена тазами разной величины, так что кружки поставить некуда. В одних кипит сахарный сироп, в других черная смородина, красная малина и зеленый крыжовник. Четверо почтенных мужей, убеленных сединами, умудренных знанием и житейским опытом, окружают плиту и наблюдают за шестью тазами. Один только-что засыпал сахар. Он начинает. Другой снимает последнюю пену и спрашивает для проформы остальных:
— Не довольно ли?
Сам-то он уже решил про себя, что довольно. Но ум хорошо, два лучше, а четыре еще лучше.
Эта суета у плиты повторяется почти ежедневно и длится несколько недель.
Каждый понимает, что казенный дешевый чай вкуснее и приятнее, если к нему прибавить немного варенья.
XV. Патока и сахар.
Мои сахарные занятия продиктованы были «Руководством по химической технологии», которое я изучал довольно усердно.
Моя первая в жизни патока оказалась не хуже той, над которой работают химики, имеющие завод-
74
75
ское оборудование, и работают после многократных опытов.
Крахмал из картофеля я добывал первобытным способом, вручную. Было довольно скучно тереть картофель на маленькой терке. Затем, вместе с другими москательными товарами, мне удалось достать немного серной кислоты. Я достал чугунок, в котором можно было варить разведенную серную кислоту, и расположился у плиты. У той самой плиты, которая была центром многих других затей.
Кислоту я взял слабую, как уксус, точнее, взял слегка подкисленную воду и начал кипятить. Когда она закипела, я взял картофельный крахмал, разболтал в стакане с простой водой и вылил в чугун. Получился кисель или клейстер.
Помешивая, я продолжал кипятить и скоро увидал, что мой кисель начинает исчезать.
Тогда я подлил вторую порцию крахмала и повторил все то, что было и с первой. Потом третью, четвертую и т. д. до семи раз. Только после седьмого раза я увидал, что кисель больше не исчезает.
Стало ясно, что кислота вся израсходована. Я подлил еще несколько капель с расстановкой. И как только кисель изчез, решил, что пора кончать.
Все семь порций крахмала исчезли. Но это только по виду. На самом же деле они превратились в сахар. Жидкость была на вкус кисло-сладкая. Оставалось теперь удалить кислоту. В лаборатории был у меня углекислый барий в порошке. Взяв его, я стал прибавлять в котелок небольшими порциями, слегка помешивая. Жидкость сильно пенилась, как это бывает с содовыми порошками. Когда шипение прекратилось, я перестал прибавлять. Очевидно кислота была уже вся связана барием.
Получился у меня барий не углекислый, а сернокислый (нерастворимый), который и осел на дно.
75
76
Осадок я профильтровал сквозь вату, а сладкую жидкость стал сгущать в тазу на остывающей плите и закончил сгущение уже не на плите, где моя тягучая жидкость могла пригореть, а в камере на окне и в вентиляторе.
Получилась настоящая белая или картофельная патока, почти такая же, как она продается в лавке.
Я мог гордиться своим успехом, хотя и сознавал, что этот успех мне ни к чему. Три фунта казенного сахара в месяц я все равно получал, а кондитерскими изделиями я не занимался. Да и патока эта была хуже сахара. Но зато я на опыте проверил свои знания.
Опыт со свекловичным сахаром был менее удачен.
Задумав сделать пробу, я выписал семян сахарной свекловицы и при содействии парника вырастил несколько штук. Вышла она не такая крупная, как на сахарных плантациях, но довольно сладкая.
Приступив к «производству», я нарезал свекловицу тонкими пластиками и вымачивал их в нескольких водах. Вымоченную свекловицу я бросил, а воду слил вместе и стал сгущать в тазу.
При сгущении я получил очень сладкую патоку, но с противным свекловичным привкусом. Осадок, который получался при этом, я не мог отфильтровать как следует, потому что у меня не было костяного угля. Поэтому я не пытался сгущать патоку дальше, чтобы получить кристаллики сахара. Все равно отмыть их мне не удастся, так как их очень мало. А получить сахарный песок с запахом свекловицы не было никакого удовольствия. Правда, моя патока была очень сладкая и ее можно было пить с ячменным кофе. Но с чаем она не годилась. Только в таких условиях, когда совсем нет сахару, и там, где его нельзя достать, такая патока была бы желанной находкой.
76
77
Таким образом, мне не удалось получить -ни зернышка сахару. Вот ^какова была моя первая работа по химической технологии.
XVI. Овощное хранилище.
О хранении овощей мы стали заботиться тогда, когда стали накапливаться самые овощи. Излишек же получился только тогда, когда наши ряды сильно поредели. Большая часть товарищей умерла от жестокого режима и навсегда покинула наш печальный остров.
[image] «Клетки» и огороды для прогулок. В центре огород М. В. Новорусского. Над левым забором видна поставленная им скворешня.
Если оставалось от лета только полсотни огурцов, то возиться с ними было нечего. Их солили в какой-нибудь стеклянной банке, держали в холодной старой тюрьме и съедали до наступления зимы. Я лично для
77
78
этой цели приспособил глубокую нишу в крепостной стене, под лестницей, ведущей на нее.
Но здесь все-таки было тесно, да и холодно.
Для общего же пользования мы устроили настоящий погреб. Много было затрачено труда на него и много пота было пролито.
Туда не проникал мороз, и овощи там никогда не мерзли.
Овощи мы хранили либо в натуральном виде, либо в консервированном. Натуральные корнеплоды засыпали песком, капусту заквашивали, огурцы солили в кадках. Этому делу никто из нас не учился. Но через год, много через два, все заготовщики стали настоящими артистами.
Одни заготовляли лично для себя и неудачу переносили единолично. Другие находили любителя, который заготовлял для целой артели. Работали на спорт и хвалились своим производством. Встречаясь случайно в самом погребе или в мастерской, недалеко от погреба, наши предприниматели устраивали состязание с мисками в руках:
— А ну-ка, попробуй моей капусты!
— А ты моих огурцов.
— Не правда ли, отличная капуста?
— Нет, мои огурцы лучше!
— Кто же сравнивает огурцы с капустой?
— Ну, так и я достану капусту, — она у меня лучше!
Слово за слово, спор разгорался. Привлекались знатоки из товарищей, о которых было известно, что они хорошие мастера по этой части. Знатоки вкушали от всех четырех проб и давали приговор:
— У Попова капуста лучше.
— А у Похитонова лучше огурцы.
Спорящие, конечно, оставались каждый при своем мнении. И через неделю, другую, при случае, обраща-
78
79
лись к другому знатоку, решение которого одному доставляло удовольствие, а другому огорчение.
Но вот беда — дно погреба было на уровне воды. Вода озера за стеной была всего в пятнадцати саженях от него. Сквозь песчаный ил она легко просачивалась и стояла в погребе под полом. Там была вечная сырость, при которой избежать плесени было нельзя.
Таким образом, наш погреб скоро превратился из хранилища овощей в гноилище их. Но мы к этому времени почти не голодали и потому не особенно дорожили овощами.
Зато мы нашли другое удовольствие. Погреб стал хорошей плесневодней, в которой можно было делать поучительные наблюдения над развитием плесневых грибков. А это при нашей любознательности, очень интересовало нас.
79
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
XVII. Мастерская тюремных Робинзонов.
Я веду свой рассказ о нашей жизни не в том порядке, как протекала она. Да и установить этот порядок теперь было бы невозможно. Календарей не было в первую половину нашей тюремной жизни. А записей мы не вели, потому что было не на чем. Бумагу, карандаши, перья и чернила мы получили много позднее.
В первые годы трудно было и думать о каких-нибудь мастерских. Ведь даже в огородах нам приходилось работать деревянными лопатами. Железные боялись нам дать, предполагая, что такая лопата окажется страшным оружием в наших руках. Инструменты же в мастерских должны быть не только железные (стальные), но и остро отточенные. Значит, вдвойне опасные.
И через три года когда многие из нас умерли и власти стали сговорчивее, особенно после нашей восьмидневной голодовки. Во время работ, т. е. при более разумном и интересном препровождении времени, нелепо было представить, что бы мы стали умирать быстрее, и что бы кто-нибудь зарезался.
И действительно, не только никто не зарезался сам, но и никого другого не зарезал. Мы целиком ушли
80
81
в работу. И работы в мастерских отвлекали нас от мрачных мыслей.
Но разрешить мастерские было гораздо легче, чем организовать их и затем научить нас работать в них. Начальство опросило каждого из нас, кто какой работой хотел бы заняться.
Оказалось, что одни хотели работать в сапожной мастерской, другие в переплетной, третьи в столярной, иные в токарной, в слесарной, в кузнице и проч.
В кузнице и слесарной нам отказали сразу без рассуждений — Нельзя. Научитесь, будете делать отмычки и убежите.
Остальные мастерские можно было пустить в ход. Но постепенно и с оглядкой.
Как бы из этого чего не вышло?
Желающих работать было много, места же для мастерских мало. А по уставу нужно было устраивать так, чтобы каждый работал в одиночку. Гулять вдвоем было можно, а работать вдвоем — никаким образом…
— А как же мы будем учиться и у кого?
— Это как вам угодно! — ответили нам власти. — Вы заявили, что желаете работать. Ну, и работайте! А как? Это нас не касается.
Мы призадумались, как быть и с чего начать. Правда, в нашей среде были рабочие, которые знали, что и как работать. Но большинство были люди умственного труда. Они многому учились и хорошо знали разные науки, но совсем не знали мастерства и не умели держать в руках пилу, рубанок или какой-нибудь другой инструмент.
Я сам был из числа этих незнающих. И мне пришлось пройти самоучкой интересную и поучительную школу.
И вот, переходя постепенно из одной мастерской в другую, я с одинаковым изумлением встречал ин-
81
82
струменты и материалы, которые я видел первый раз в жизни и над которыми я много ломал голову, чтобы догадаться:
— Что это и к чему?
Наклонность к технике, не имевшая случая проявиться, у меня была с юности. И, видя впервые кучу инструментов и материалов в столярной мастерской, я с большим интересом задавался вопросом:
— Как это делается или к чему это служит?
И над разгадыванием таких технических задач я проводил многие часы.
Кстати, времени было очень много, и мы им совсем не дорожили.
Вышло так, что первые часы в мастерских я проводил не в работе, а в размышлениях.
И эти думы, наверное, шли по тем же путям, по которым шло человечество когда-то целые века и даже тысячелетия. Это было гораздо раньше, чем оно дошло до современных рабочих инструментов.
Я никогда не забуду того дня, когда меня впервые привели в столярную мастерскую. Она, как и другие, помещалась в том самом казематном здании, в которое я посажен был в первый день заточения.
Это здание теперь превратили в большой капитальный сарай, в котором шли наши работы у верстаков и в котором мы мало-по-малу стали хозяевами положения.
По середине здания была самая просторная камера. Меня ввели в нее и, ни слова не говоря, захлопнули дверь. Я очутился и здесь один.
Никогда в жизни я не занимался этим делом и ни разу не осматривал ни одной мастерской. Понятно, что сюда я попал как в кунсткамеру, где все для меня было и ново, и интересно.
И вот, я вижу в пустой камере настоящий верстак — небывалая вещь — из прежнего покинутого нами
82
83
мира. И на нем чрезвычайно интересные, разнообразные и в то же время совершенно незнакомые мне предметы. Чуть не каждый из них загадка для меня и радостная находка для моих глаз.
Только в настоящей пустыне долго блуждавший путник, найдя товары на спине павшего и брошенного верблюда, мог бы радоваться своей находке так сильно, как радовался я. Ведь мы жили тоже в пустыне: мрачная камера, голые стены — и больше ничего.
Большая часть инструментов лежала и стояла на ящике у стены. Тут же стоял небольшой кусок дюймовой доски — материал для моих будущих работ. Из него я должен начать что-то делать. И по щучьему велению из моих рук, никогда не державших рубанка, станут выходить самые чудесные вещи.
Впоследствии так это и вышло. Но сейчас я был беспомощен, как новорожденный младенец, и решительно не знал, что мне делать и как делать. Запирая дверь, мне сказали, что нужно выстругать доску около 2 аршин длиной. Я храбро принялся за работу, усердно стругал, еще усерднее утирал пот, перебрал все инструменты, о которых я думал, что ими строгают, и, увы, доски этой за 3 часа я все же не успел выстругать.
Таково было начало.
Но скоро эта беспомощность прошла. Постепенно все мы, столяры, токари и переплетчики, стали самоучками в буквальном смысле этого слова. А под конец научились работать не хуже настоящих мастеров. Одним из первых моих изделий была не какая-нибудь мелочь. Нет. Я начал ни больше, ни меньше, как прямо с книжного шкафа.
Первые шаги, конечно, я делал не без помочей. Почти каждая часть этой сложной работы приводила меня в затруднение и чуть не в отчаяние. К счастью,
83
84
в это время сидел рядом со мной П. Л. Антонов — на все руки мастер. Я возвращался домой и стуком передавал ему все мои недоумения и затруднения, которые он тем же путем терпеливо и разъяснял мне. Помнится, я спрашивал у него даже о том, сколько времени нужно, чтобы считать клей вполне высохшим.
Долго я делал шкаф — может быть, два месяца, может быть, три, даже четыре. Но все-таки смастерил его. Он и до сих пор наверное цел и все время там книги стояли.
Но что это был за шкаф. На нем смело можно бы сделать надпись: «Прохожий, стой и удивляйся». Дверцы у него створчатые и с филенками, в тайну коих я проник, осмотрев предварительно готовый, купленный шкаф. Но самое замечательное то, что одна дверца набекрень. Составил я ее как следует. Но когда склеил, то оказалось, что я ее скосил, и потому косые углы ее не могут совпадать с прямыми углами отверстия шкафа, в которые вставляются двери. Будь я опытен, я размочил бы ее, расклеил и снова склеил прямоугольно. Но тогда мне казалось, что ошибка эта непоправима, а потому дверца так и осталась совершенно кривой.
После этого у меня было сделано не менее десятка разных шкафов, больших и маленьких, не считая тех, которые я делал совместно с другими. Два из них были вывезены оттуда и сейчас стоят в музее на курсах Лесгафта П. Ф.
Могу сказать, что из всех предметов домашнего обихода мне не приходилось делать, кажется, одной только кровати. Я делал: скамьи, стулья, кресла, табуреты, столы и столики, лестницы, комоды, сундуки, ящики, шкатулки, футляры, пюпитры, жардиньерки, этажерки, мольберты, киоты, рамы и рамки, вешалки, парты, верстаки, шахмат-
84
85
ные доски, разные физические приборы и игрушки. В одном экземпляре были сделаны тачки и экран к камину.
При начале работ нас было двадцать три человека. Правда, не все стремились работать. Но и места хватало не всем желающим. Вот почему, едва только первые столяры обучились пилить и строгать, как они приступили к изготовлению новых верстаков и к оборудованию новых мастерских для тех товарищей, которым было негде работать.
Эта работа шла медленно. Но все-таки года через три, вместо одного верстака, который был привезен к нам из города в готовом виде, мы имели их уже десять. А так как к этому времени нам разрешили работать по двое, то мы и поставили по два верстака в камеру. Инструменты теперь покупались в виде одних железных частей, без рукояток, колодок и проч. Деревянные же части к ним мы изготовляли сами из крепких сортов дерева, которое нарочно покупали для этого.
При содействии и под руководством нашего превосходного кузнеца Антонова к двум металлическим токарным станкам (по дереву), которые были куплены готовыми, мы прибавили третий свой. Мы сами соорудили его.
Оборудование трех переплетных мастерских заняло у нас также не мало времени и сил. Процветали у нас и ажурные работы, которые предшествовали всем другим и которыми одно время, за неимением ничего лучшего, многие увлекались. Особенно дамы: В. Н. Фигнер и Л. А. Волкенштейн. И. Манучаров, В. Иванов и Похитонов были специалистами этого дела и создали много изящных вещиц, которые разошлись по рукам жандармов и департаменских чиновников. Но сам я ажурами не занимался.
Сапожная мастерская была одна, и она могла бы
85
86
помещаться прямо в жилой камере. Я тоже был однажды приглашен в мастерскую двигать башмачное дело. Мне дали колодку, кожу и инструменты и предложили сделать башмаки для Лукашевича, так как для его феноменальной ноги казенная обувь была тесна и ему делали ее на-заказ.
Долго я мучился. Немало пришлось мне поломать голову, чтобы сообразить, как прикрепляется подошва. Но как бы там ни было, а, примерно, через месяц, пара башмаков все-таки была готова.
Охотников работать в сапожной мастерской было мало, и она в конце-концов совсем захирела.
Наконец, уже за пять лет до освобождения нам удалось добиться разрешения оборудовать кузницу. Целых пятнадцать лет мечтал о ней наш даровитый Антонов. И хотя поздно, но все-таки добился своего.
Таким образом, на всю нашу маленькую общину приходилось:
10 верстаков,
3 токарных станка,
3 переплетных мастерских,
1 сапожная,
1 кузница.
В нашей жизни строго была проведена одна норма, бывшая устоем ее, — полное изолирование нас друг от друга.
Мастерские устраивались применительно к тому режиму, который был установлен для нас.
Каждый из нас должен был работать в одиночку. Но, работая в одиночку, можно выделывать только простые и мелкие вещи. Для крупных же нужна помощь товарища.
А потому мы пускались на все хитрости, чтобы обойти это затруднение и пробить брешь в нашем одиночестве.
Однажды нам заказали сделать казенную ограду
86
87
из точеных балясин. Собирать и составлять ее пришлось в коридоре, так как в камере было тесно.
У меня было игривое настроение.
Я выхожу в коридор к своей ограде и говорю дежурному жандарму:
— Приведите-како мне сюда товарища Похитонова! Похитонов — мой главный помощник в этом деле,
но ведет эту работу самостоятельно и отдельно. Жандарм мнется, заикается и говорит:
— Никак не могу!

— Не можете? Ну, хорошо! Я скажу каменданту, что вы не даете мне исполнить его заказ.
Жандарм колеблется и соображает, за что ему попадет больше: за то ли, что вывел в коридор двоих сразу, — а это решительно запрещалось, — или же за то, что он не выпустит и помешает исполнить казенный заказ.
— Вот несчастье-то! — думает он. — Спокойнее и проще было без этих самых мастерских!
87
88
Он медленно повертывает ключ в замке, останавливается в недоумении, побеждает свое последнее сомнение и решительным движением распахивает дверь Похитонова.
А тот уже чутьем угадал мой ловкий ход. Мы для видимости примеряем что-то, потом пилим новую двухдюймовую доску и, нагибаясь над ней, держась за пилу, оба ухмыляемся в бороду, и едва сдерживаемся, чтобы не прыснуть со смеху.
В коридоре мы наслаждаемся светом и его простором, который так радует нас после тесноты и мрака камеры. А через полчаса оба расходимся с тем, чтобы завтра повторить тот же дипломатический прием.
Эти выходы в коридор вошли в привычку и стали ежедневными. Но нам было мало этого. Мы хотели отвоевать гораздо больше.
Случалось так, что в то же время Попову надо было пройти к парнику. Это было тут же во дворе, близ двери, выходящей из коридора. Его работа была еще неотложнее нашей. Надо было либо затенить парник от солнца, иначе все выгорит, либо полить его землю, уже высушенную солнцем.
Жандарм не пускает его и старается убрать нас из коридора, пока Попов пройдет во двор. Но мы не уходим:
— Пусть Попов проходит мимо нас, мы его ничуть не боимся, — говорили мы жандарму.
А Попов, проходя мимо нас, старается хоть на минутку задержаться. Задержаться только для того, чтобы показать жандармам, что нет никакой беды в том, что мы стоим втроем и разговариваем.
Наконец, случалось и так, что Попов спокойно работает на дворе, мы же с Похитоновым возимся в коридоре около своей ограды, а кому-нибудь четвертому необходимо выйти к плите в конце коридора для того, чтобы заправить клей. И вот мы все чет-
88
89
веро встречаемся в коридоре и начинаем спорить, скажем, о том, какой клей лучше, если, например, надо склеить щиты для шкафа, или что-нибудь в этом роде.
Жандарм слушает, но не прерывает нас, потому что разговор самый деловой. А мы затягиваем его все дольше и дольше и затягиваем для того, чтобы доставить себе удовольствие быть всем вместе.
Так мы при помощи мастерских отвоевали себе свободу встреч и совместной работы.
На эту борьбу нам понадобилось около четырех лет. И за это время мы не теряли ни одного дня, не пропускали ни одного благоприятного случая, чтобы поставить работу в мастерских так, как этого требует ремесло.
XVIII. Как мы учились ремеслам и как работали.
Всякий мастер или ученик делает то, что ему необходимо, или же то, что ему заказали (за деньги, в обмен или в подарок). У нас же этого не было.
Мы не могли ничего делать для себя. И за деньги ничего. Немногие заказы, которые предлагало начальство, были неинтересны для нас, потому что они были для людей, враждебных нам.
Нам надо было учиться, и в то же время выдумывать, что бы такое сделать, на что можно получить разрешение.
У нас было много затруднений чисто технических, которые встречались, как и у всех, не умеющих работать. Но к ним прибавлялись новые затруднения, которые ставило перед нами тюремное начальство.
Учиться было гораздо проще, чем выбирать работу по желанию.
При самостоятельном обучении нам нужна была разнообразная практика.
89
90
— Попробую так: если выйдет, — хорошо. Значит, я угадал. Если не выйлет, попробую по-иному.
Если я напал на верный путь, и дело помаленьку идет, — нужно больше практиковаться. Из этой практики приобрести верность глаза, точность движений, тщательность и тонкость в сочетаниях.
Для практики нужна однообразная работа. Мы искали ее и с удовольствием принимали заказ, если нам его предлагали.
Вообще же интерес к работе у нас был совсем особенный.
Первое время нас интересовала только самая работа, а не вещь, которую мы делали. Интересовало мускульное и мозговое упражнение. Особенно после многих лет вынужденного безделья.
Давно ли это было, когда мы с Лукой вдвоем перепиливали при помощи ржавого гвоздя, который откопали в земле, нужную нам в огороде палку. Было все равно, как будто мы перегрызали ее зубами.
А вот теперь я беру настоящую столярную пилу, беру любой кусок дерева и в один момент перепиливаю его в любом месте. Пила колеблется в неверной руке, идет криво, но все-таки быстро и надежно режет. Что за беда, что не по линии. Научусь держать крепко пилу и направлять верно, так пойдет как следует. А пока:
Раз, раз и готово!
Можно напилить хоть сотни кубиков, налюбоваться всякими разрезами, накопить материал для складывания всяких геометрических и строительных фигур. Только не брать их с собой в камеру. Туда ничего брать не разрешается.
Как приятно было смотреть на те шелковистые стружки, которые тонкими лентами, словно волнистая пена, выходят из-под моего рубанка.
Что ни взмах, то — фиить. Новый звук и новые
90
91
шелковистые кудри. Так бы и стругал целый час для одного только удовольствия получать эти курчавые завитки от твердого и непослушного дерева.
А когда посмотришь, как блестит это дерево после хорошо отточенного рубанка! Блестит оттого, что ты уже приучил свои руки, блестит от твоей ловкости, оттого, что ты уже понял, как надо наводить этот волшебный блеск.
Тут работа уже сама собой переходит в прямое удовольствие.
Удовольствие получалось еще больше, когда удавалось сделать новую вещь.
— Не было ничего, и вдруг — настоящая, полезная вещь. И притом вполне похожая на ту, которая продается в магазине. Новая вещь в нашем скудном обиходе, в котором все вещи являлись приятной редкостью.
Много мы делали всяких вещей. И каждый раз, как выходила из наших рук новая вещь, которой еще не было у нас, каждый мастер выпускал ее с восторгом.
— Смотрите, какой он молодец! Он сделал нечто небывалое! — говорили ему товарищи.
И теперь сам он любуется на, это изделие, потому что до сих пор он еще не был уверен, что сумеет сделать как следует.
Привыкнув применять на каждой работе свою смекалку, мы редко повторяли в своем изделии все то, что было в готовом образце, которому мы подражали. Непременно хотелось что-нибудь переставить по-своему.
Правда, не всегда такое новшество служило к лучшему. Но часто наша выдумка оказывалась как нельзя более уместной. И тогда вещь являлась улучшенной.
Как жаль, что мы никогда не записывали таких маленьких усовершенствований. Их накопилось бы у нас много.
91
XIX. Обставляем свое жилище.
Первой работой, которую нам разрешили и которая служила для улучшения нашей жилищной обстановки, были маленькие треугольные этажерки в три полки. После долгих пререканий с начальством они были разрешены по весьма простым причинам: в нашей камере стали накапливаться вещи, которых поместить нам было некуда.
Кроме медной миски, оловянной тарелки и такой же солонки и ложки появилось еще два чайника, большой и маленький, кружка, две книги (в это время разрешили давать по две тетради, карандаш и перо с чернильницей). Кроме того, ежедневно давали хлеб, и, наконец, выдали сразу колотого сахару три фунта на месяц и четверть фунта чаю.
Где же было все это уместить на маленьком железном неподвижном столе. А заниматься, особенно чертить или рисовать что-нибудь, и совсем было негде.
Этажерки мы сделали лакированные. Ножки точили наши первые токаря, которые кое-где видывали эту работу. А я склеивал щиты (по две доски) и выпиливал из них треугольники по установленному образцу.
Сделав этажерки мы стали мечтать о табурете, так как сидеть на железном стуле, и притом на таком, который нельзя передвинуть, было крайне неудобно.
Мечтать начальство не воспрещало, но табуретов не разрешало. У него были свои резоны. Табурет нельзя разрешить именно потому, что он переносится. Его можно подвинуть к окну, стать на него и увидеть, что делается за окном. Или с табурета можно влезть на окно и выглянуть в форточку, которая помещалась под самым потолком.
Да и это еще не все. Весь ужас в том, что из форточки можно высунуть руку, ухватиться за решотку и начать ее подпиливать.
92
93
Так фантазировали наши жандармы, несмотря на то, что имеется в коридоре дежурный, который день и ночь поминутно заглядывает в дверь. Под окном есть часовой, который слышит каждый звон решотки. Кроме того, мы были окружены крепостной стеной и водой, которые охраняли нас лучше всякой стражи.
Если нельзя иметь табурет честью, то возьмем его явочным порядком.
Недолго думая, я приготовил в мастерской все составные части табурета и в три дня перенес их незаметно в камеру, где спрятал их под матрац. Я был спокоен, потому что знал, что до субботы обыска не будет.
В то же время я за пазухой в бумажке принес немного застывшего клею. Наконец, выбрав время и получив кипяток для чая, я разогрел свой клей в кружке и, склеив ножки табурета, положил на него две еще не склеенные дощечки, сел возле стола и стал пить чай.
Через полчаса приходит смотритель.
— Это что такое?
— Видите, табурет.
— Этого не разрешается.
— Да я и не спрашиваю разрешения. Табурет сделал я сам. Значит, он мой, и я его никому не отдам.
— Я прикажу взять у вас силой.
— Попробуйте! На насилие и я отвечу насилием.
Смотритель опешил. Дело принимало серьезный оборот. Возможно, что раздраженный узник приведет свою угрозу в исполнение и «оскорбит действием» начальствующее лицо. А за это, по инструкции, полагалась не более, не менее как смертная казнь.
— Стоит ли доводить дело до этого из-за такого пустяка, — думает смотритель и уходит ни с чем.
93
94
Но я не поверил и решил перехитрить его. Утром, когда отворилась дверь для прогулки, я, надев халат, беру с собой и табурет.
— А это зачем? — спрашивает смотритель.
— Это для того, чтобы вы не отобрали в мое отсутствие.

Смотритель об этом докладывает коменданту. Комендант доносит высшему начальству и, наконец, получает разъяснение:
— Дело о табурете прекратить.
По лицам жандармов я вижу, что подобная резолюция уже получена. Но только на семнадцатый день, когда я собираюсь выходить с табуретом под мышкой, я слышу заискивающий голос смотрителя:
— Не стоит беспокоиться! Табурет останется навсегда в вашей камере.
94
95
После этого он стоял у меня лет двенадцать. Я покинул, наконец, камеру навсегда, а табурет в ней остался. Но это был уже не тот, о котором я говорил. На его место я давно уже поставил открыто, а не хитростью, лакированный табурет, крашеный под орех и на точеных ножках.
С каждым годом наши изделия выходили чище, лучше и красивее. Свою камеру мы теперь могли украшать как угодно. А потому, кроме табурета, я сделал себе мягкое кресло. Правда, оно не было на пружинах и не было обито кожей, а только серым солдатским сукном. Но сидеть на нем было в десять раз удобнее и мягче, чем на табурете.
После такого кресла я сделал еще «гнутое» венское кресло с высокой запрокинутой спинкой. Все оно было обтянуто плетеной Камышевой сеткой, которую я здесь впервые в жизни сплел и которая ничем не отличалась от работы настоящих мастеров.
Конечно, я не мог согнуть кривые части этого кресла. Гнуть дерево можно только на фабрике. Но я выпилил эти части из отдельных кусков березы по рисунку и все их прочно склеил. А затем подкрасил под бук и залакировал.
Издали мое кресло походило на образчик настоящей гнутой мебели. И странно было видеть на фоне мрачной тюремной камере эту венскую мебель.

Как такой гость из далекого и чуждого нам мира
95
96
мог попасть в наш унылый каземат? Это кресло я подарил Вере Николаевне. В ее камере такое тонкое изделие могло сохраниться гораздо дольше.
Вообще мы избегали делать крупные вещи, которые были в полном несоответствии с нашими тюремными стенами. Было тяжело украшать собственную тюрьму, словно шить тебе саван из драгоценных материй.
Иное дело мелкие вещицы: шкатулки, ящички, футляры и т. п. На таких вещах мы изощряли свой вкус, соперничая друг с другом.
Не было ни одного сорта дерева из самых редких пород, которое бы мы не испробовали для этой цели. Сначала это были доски для одноцветных ажурных изделий — корзинок, вазочек, сухарниц. Потом доски для мозаичных изделий из разноцветных частей. Наконец, всевозможные цветные фанерки для простых шкатулок с разными мозаичными накладками. Шкатулки из белого клена делались с остроумными рисунками. Художники рисовали самые рисунки на изделии, а другие тщательно залакировывали их, чтобы прочнее закрепить краски.
Пробовали еще разукрашивать шкатулки из белого дерева новым способом: отпечатывали мелколистные засушенные растения путем крапления и также закрепляли рисунок лакировкой.
Кое-что из этих изящных безделушек сохранилось и до сих пор, потому что одно время нам разрешали посылать что-нибудь из своих изделий родственникам, переписку с которыми нам разрешили уже спустя десять лет после разлуки.
Все эти разнообразные безделушки изготовлялись в большом изобилии. Однажды мы собрали весь свой запас их и обратили, при помощи жандармов, в деньги, а деньги пожертвовали в пользу голодающих.
96
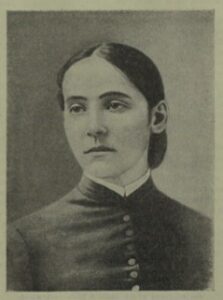
ВОЛКЕНШТЕИН, ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
урожденная Александрова, родилась 18 сентября 1857 года. Училась в Киевской гимназии, вышла замуж за студента-медика Волкенштейна, ставшего затем доктором. На ее квартире скрывался Гольден-берг после своего покушения на жизнь харьковского губернатора Крапоткина в 1879 году. Потом она уехала за границу, возвратилась в Россию в 188 ? году, была вскоре арестована и вместе с Верой Фигнер осуждена на смерть 28 октября 1884 года, а потом заключена на всю жизнь в Шлиссельбургской крепости. В 1896 году по амнистии сослана на Сахалин. В 1906 году была убита во время манифестации во Владивостоке.
Николай Морозов.
99
На место проданных скоро появились новые, еще более изящные.
Работали, конечно, не все. И те, кто работал, старались сделать подарок к именинам кому-нибудь из своих приятелей, не умевших работать.
Особенным вниманием в этом отношении пользовались обе наши дамы, Вера Николаевна Фигнер и Людмила Александровна Волкенштейн. Самые изящные и редкие вещи попадали обыкновенно к ним.
В свою очередь, обе дамы, накопив таких подарков по нескольку штук, пользовались ими для того, чтобы дарить их другим. Они так же, как и мы, работали и в столярной и в токарной. Но у них была еще своя специальность — рукоделие. Они дарили нам шарфы, варежки, фуфайки и даже вышитые скатерти на стол, для того, чтобы покрывать его в торжественных случаях.
Так происходило у нас производство и перераспределение житейских благ. Из изделий, так сказать, общественного характера назову школьные парты, над которыми нам не мало пришлось ломать голову, потому, что мы совсем забыли размеры тела детей школьного возраста. И, наконец, детские игрушки, которые мы делали на елку для жандармских детей и в которых проявили много творческой фантазии.
Когда мы покидали этот негостеприимный остров, мы могли сказать, что никакое ремесло нам не чуждо, и что во многих из них мы стали настоящими мастерами.
XX. Даже горшки делали.
В литературе часто упоминается старинное выражение, что горшки обжигают не боги. Иначе говоря, не нужно особых талантов и помощи богов для того, чтобы обжигать горшки.
99
100
Мы с Лукой не раз вспоминали эту поговорку, когда задумали делать горшки для цветов. Но до этой мысли мы дошли не сразу. У нас не было залежей глины, не было никакого станка, не было печки, где бы можно было обжигать горшки.
И вот однажды, во время разработки шахты для добычи земли, мы обратили внимание на залежи мягкой массы красновато-бурого цвета, которую можно было принять за глину либо за суглинок. Мы взяли ее.
От руки попробовали из нее слепить горшок, и вышло, недурно. Тогда мы решили расширить этот опыт. Я сделал станок, в котором на одной вертикальной оси было установлено два круга. Нижний можно было вращать ногами, сидя на табурете, а на верхнем укрепить в центре кусок глины и, вращая его ногами, вытачивать руками форму цветочного горшка. Вытачивать, поманивая руки в воде. Мягко, скользко, просто и легко. Куда как легче, чем вытачивать стамеской горшок из дерева на токарном станке!
Мы работали с Лукой попеременно. И после нескольких неудачных опытов мы увидали, что дело как-будто налаживается.
Мы отобрали полдюжины самых лучших горшков и стали просушивать в мастерской, а затем пошли обжигать их под той плитой, на которой мы разогревали клей. Заложив в зад печки несколько горшков, мы осторожно наполнили печь дровами, разожгли ее во весь жар и оставили горшки остывать до завтра в печи. На утро с особым волнением мы вынули обожженные горшки и стали пробовать. Я заткнул пальцем дырку в дне горшка, а Лука налил в него воды и мы с замиранием сердца стали ждать. Минуты две я держал горшок над раковиной, сохраняя воду. Тогда Лука погрузил в нее свой палец, потер им около .мокрых стенок горшка и с огорчением сказал:
— Брось!
100
101
Было видно по его пальцу, что глина на горшке размякла.
Значит, обжигали мы горшки, да не обожгли. И еще раз вспомнили про богов. Им, вероятно, это удалось бы гораздо лучше! Все шесть горшков были испробованы точно таким же образом.
Ни один не удался.
Тогда мы поняли, что в этой печурке, под плитой, не накопишь столько жара, сколько нужно.
Мы поняли, что наша неудача полная и бесповоротная. Однако, мы не огорчились ею и отнеслись к ней совсем равнодушно. Работа эта однообразная и притом очень грязная. А горшков мы могли купить целую кучу за один рубль, который можно было легко заработать на другой более интересной работе.
После этой неудачи мы так охладели к гончарному делу, что забыли возобновить свой опыт через семь лет, когда у нас уже была сооружена кузница, с большим горном, в котором, при помощи мехов, можно было раскалить горшок до белого каления.
XXI. Коллекции и приборы.
Мы увлекались науками, а для наших учебных занятий по природоведению нам не хватало самого главного, а именно природы.
Правда, делая почву, мы нашли много весьма разнообразных камней. Развели очень много растений для такого маленького клочка земли. Собрали много насекомых. Но это не могло удовлетворить нашу любознательность. Мы жаждали большего.
Понятно, как мы обрадовались, когда узнали из одного объявления на обложке новой книги, что в Петербурге есть такой Музей, который выдает на дом учебные пособия по разным предметам.
— Вот, — рассуждали мы сначала с Лукой, а потом
101
102
с Морозовым, — было бы хорошо и нам абонироваться в этом Музее! Сколько научных предметов мы могли бы иметь у себя! И с каким вниманием мы рассмотрели бы здесь на досуге каждый предмет!
Да и цены-то за пользование очень недорогие! У нас, конечно, найдутся такие деньги. Деньги на нас отпускались, но их, конечно, нам в руки не давали. Когда произошла реформа с золотой валютой, мы нарочно просили смотрителя, чтобы он дал хоть взглянуть на современные золотые монеты, и он благодушно раскрывал свой кошелек и показывал нам деньги в натуре.
Комендант, к которому мы обратились относительно Музея, предоставил устроить это доктору, ссылаясь на то, что доктор более сведущ в этом деле, чем он.
Доктором в это время был у нас Н. С. Безроднов, который оказывал нам много услуг. Он умер недавно. Лица, знающие его близко, говорили, что он поступил к нам с определенной целью — облегчить наше положение.
Доктор сразу согласился, как только мы к нему обратились со своей просьбой. Года четыре непрерывно у нас продолжались самые деятельные сношения с Музеем. Доктор оказался человеком весьма подходящим для роли ученого корреспондента. Всегда снисходительный и внимательный, всегда спокойный и обходительный, он с полным усердием и терпением вел это сложное и щекотливое дело и умел обходить всякие подводные скалы, которых, конечно, было не мало на этом тернистом пути. Он всегда с одинаковой ровностью и готовностью отзывался на всякое новое предложение и новую просьбу, обращенную к нему в целях расширения нашего дела.
Чего бы мы ни задумали спросить у него в интересах технических, химических или просто как материал для коллекций, он никогда не отказывал; если не было
102
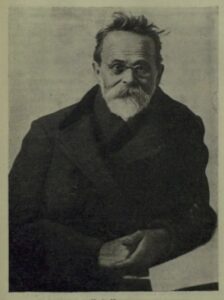
МОРОЗОВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Родился в 1854 году в Ярославской губернии, учился сначала в семье, потом в Московской 2-й гимназии. С детства увлекался естественными науками. Был членом тайного о-ва «Земля и Воля»; одним из основоположников политического направления, выразившегося в образовании партии «Народная Воля». В ней состоял членом Исполнительного1 к-та. Был два раза в эмиграции в Женеве. Первый раз арестован в 1875 году, второй в 1876, третий в 1880, четвертый в 1912 году. Осужден на пожизненную каторгу в 1882 г. и освобожден из Шлиссельбургской крепости в 1905 году по амнистии. В заточении занимался науками, на свободе — науками и литературой. Был редактором подпольного Журнала «Народная Воля». В настоящее время состоит директором Научного Института имени Лесгафта в Ленинграде и редактором «Известий Научного Института имени Лесгафта».
105
у него в аптеке, то он выписывал из аптекарского склада. В условиях нашей жизни помощь доктора была очень ценной.
Плату за пользование коллекциями мы вносили из тех денег, которые были ассигнованы на книжные расходы. А чего стоил провоз и доставка, мы не могли судить и только догадывались, что нашему услужливому доктору приходилось нередко обращаться к собственному карману. Сам же он при малейших намеках на какие-нибудь расходы с его стороны, конфузливо уклонялся от разговора и говорил, что это совершенные пустяки.
Когда мы впервые обращались в Музей, мы думали, что наши сношения с ним будут односторонними, т. е. мы будем пользоваться только готовыми коллекциями музея.
Но Музей еще организовывался и был тогда крайне беден. Многие коллекции, очевидно подаренные, были очень убоги и сами напрашивались на ремонт. Первый обратил на это внимание Н. А. Морозов и начал делать ящики для палеонтологических образцов, приводя образцы в систему.
Мы и не воображали, что в сношениях с Музеем откроется благодарное поприще для приложения наших разнообразных навыков, приобретенных нами в мастерских.
Музей очень скоро втянул нас в работу по изготовлению коллекций и приборов.
Сначала мы получали от него разный сырой материал, который надо было привести в порядок. А. потом сами стали заготовлять свой материал и комбинировать его в новые коллекции, которых у музея не было и которые придумывали мы сами.
Один раз мы получили из Музея очень большой ящик, весь набитый физическими приборами. Можно сказать, целый кабинет! Эти приборы были только-
105
106
что выписаны из Германии и еще не были распакованы. Понятно, с каким восторгом мы разбирали и расставляли эти вещи. Подумайте-ка! Ведь прямо из-за границы! Каждая вещь обвеяна воздухом свободы и носит на себе печать культуры.
Для нас была дорога всякая новая вещь. А тут вдруг сразу столько невиданных замысловатых вещей, из которых каждая может проявить перед нами какой-нибудь научно-обоснованный физический закон.
Тут было до двадцати пяти приборов, и к каждому из них относилось по нескольку предметов, — металлических, деревянных, стеклянных и даже эбонитовых. Каждый прибор мы вставили плотно в устроенный для него домик и части его врезали внутрь крепко, чтобы не двигались.
Тогда немало нас удивило, что тут были простые приборы из одного дерева, которые легко могли сделать и мы сами, и любой столяр. Один точно такой прибор я для пробы сделал сам. И Музей вместо одного получил их два.
Однажды возвратившись из города, доктор зашел ко мне и сообщил, что Музей предлагает нам взять большой запас засушенных растений, привести их в порядок и составить несколько школьных гербариев. Я смутился. К счастью, у нас был И. Д. Лукашевич, хорошо знакомый с систематикой растений и знающий на память много растений нашей флоры. Я дал доктору согласие и через неделю мы получили огромный пук засушенных растений. Большинство из них лежало в бумаге без всякого порядка и многие не были определены вовсе.
Надо было разобрать их по семействам, плотно наклеить и пришить их к гербарийной папке.
Мы с Лукой взялись за эту работу, расположились в пустой камере, принесли туда чистые доски, разложили их вместо столов ц принялись за раскладку
106
107
растений. Много дней ушло на эту работу! Но мы с огромным удовольствием купались в море этих растений. Они волновали нас, как всякая зелень волнует путника в пустыне.
Правда, эта зелень была сухой и сильно побурела. Но что за беда! Это была растительность недоступных нам полей, лугов и лесов. Разбивая эту растительность, мы как бы путешествовали среди живой природы, на недоступном нам просторе, — там, где свободно развиваются и мелкая былинка, и ветвистые лесные деревья.
Каждое растение, которое мы когда-нибудь прежде встречали в природе и здесь узнавали, вызывало в нашей памяти не только те места, где мы его встречали, но и время года, обстановку, даже спутников, если они были тогда у нас.
И теперь, перебирая этот сухой, бездушный и мертвый материал, мы переживали столько живых и сильных впечатлений, сколько не переживает ни один ученик, делая свой школьный гербарий, в обычной житейской обстановке.
Так мы с Лукой целыми днями предавались этим упоительным занятиям, пока не разобрали более четырехсот растений и не сделали этот материал годным для справок и для пополнения других гербариев. Но, когда мы отправили свои первые гербарии в Музей, их вернули обратно, сообщив, что, к сожалению, они никуда не годятся. Для образца же нам был прислан 1 лист с приклеенным на нем и пришитым растением, на толстой белой папке — форма вдвое более нашего. Только в таком виде, говорят, листы выдерживают все те жизненные толчки, какие выпадают им на долю при постоянном употреблении.
Нечего делать, пришлось все переработать. Запас терпения у нас был неограниченный. Дело скоро наладилось и пошло легко.
107
108
С неменьшим удовольствием мы разбирали и ящик с камнями, который за всю нашу жизнь однажды получил В. Г. Иванов из Вены через своего брата, горного инженера. Он выписал их как материал для изготовления коллекций. Камни редко радуют взоры своим видом. Но эти камни, действительно, радовали нас. Глядя на них, мы созерцали мысленно те горные громады, которые высились на Кавказе или в Альпах и которые сложены были вот из этих самых пород.
Что мы тут видели: древность природы, массивные изгибы, изломы и вспучивания, размывание и разрушение. Все это наблюдают и изучают в точности только на месте залегания. Но все это мы изучали здесь, в своем застенке, правда, при усиленном напряжении воображения.
А самые камни мы получили только потому, что увлекались коллекционированием и стали всякими путями добывать необходимый для этого материал.
Коллекции минералов и горных пород, которые тогда изготовлял тов. Иванов, можно теперь видеть в Музее Революции. Душою нашего коллекционирования был И. Д. Лукашевич как единственный человек с систематической естественно-научной подготовкой.
Одно время увлечение гербаризацией было необычайно велико. Целыми днями в хорошую погоду мы только и делали, что сушили растения. Старая газетная бумага, в которой засушивали, валялась под стеной здания на камнях мостовой и сушилась, как сено. В кухне эта бумага сушилась на веревке, как белье. А я, вооружившись двумя утюгами, тут же близ плиты утюжил, как прачка, свежие растения и быстро засушивал их горячим утюгом.
Долго спустя потом я узнал, что один гербарий моей работы (огородных растений) попал на Париж-
108
109
скую всемирную выставку и там обращал на себя внимание своим прекрасным видом, работой и ярко-зеленой засушкой.
Это было в 1900 году. Почему Департамент полиции терпел такую рискованную и продолжительную операцию, как наши сношения с Музеем, понять трудно. Тем более, что это было в разгар студенческих волнений. Вероятно, доктор имел хорошие связи и ему доверяли. Все же любопытно, что доверяли более или менее и нам, так как обойти доктора при его доброте не было ничего легче.
Но нужно сказать тут же, что у нас не было ни малейших побуждений воспользоваться Музеем как средством для безнадзорных сношений с «волей». Мы так дорожили своими связями с Музеем и возможностью работать для него, что вовсе не хотели подвергать их какому бы то ни было риску. Да и что мы могли писать на «волю» или получать из Музея тайным образом? Мы так давно были отрезаны от мира, от друзей и знакомых, что возобновить сношения с ними путем тайной, краткой и отрывочной переписки нам казалось почти невозможным.
Но как ни корректно относились мы к сношениям с Музеем, жандармы становились все более и более подозрительными.
Комендант, организовавший сношения с Музеем, ушел от нас в 1897 году. Для смягчения нашей участи он сделал очень многое. По его уходе, мы отстаивали свои позиции довольно успешно вплоть до ухода доктора Безроднова. С уходом доктора все пошло на смарку и наши сношения с Музеем были прекращены.
Музей пробудил и развил в нас творчество. Он же и получил большую часть наших коллекций. Только работая для Музея, мы были уверены, что работа наша не пропадет без пользы. Иначе она по-
109
110
служит лишь для ненавистных нам жандармов, или же пропадет бесследно вместе с нами в тайниках недоступного застенка.
Лично я всем своим естественно-научным образованием обязан Музею, его коллекциям и работам для него, и краткий эпизод сношений с Музеем остается в моей памяти самым благодатным временем из всей продолжительной жизни в Шлиссельбурге. Музей дал нам не только возможность посвятить несколько лет, праздных и бездельных, осмысленному и полезному труду, но и доставил массу знаний, которых помимо него добыть нам было негде.
Когда нам удалось добиться разрешения быть вчетвером, у нас открылись курсы по разным наукам. Лекторами чаще всего были Лука и Морозов. Впоследствии самым усердным насадителем и организатором этих лекций всегда была Вера Николаевна, сохранившая до конца заключения самый живой интерес ко всевозможным отраслям знания и искусства.
Наибольшие удобства для наших встреч давал единственный пункт, где соприкасались V и VI клетки с 1 огородом и где могли совместно беседовать 6 человек, а все шестеро говорить еще с двоими, которые помещались в IV-й клетке.
Здесь-то и протекала отныне вся наша публичная жизнь, пока через несколько лет для нее не нашлось другого, еще лучшего места. И здесь не только читались рефераты и лекции и происходили всевозможные предметные уроки из области науки и техники. Сюда приносилась даже иногда классная доска, обычно висевшая у Морозова в камере, на которой Лукашевич наглядно изображал разные мудреные вещи, бывшие предметом интереса для собиравшихся слушателей. Для этих лекций тоже нужны были «наглядные пособия». И производством их чаще всего занимался я. Морозову я помогал устраивать из проволок различ-
110
111
ные «небесные сферы», на которых он демонстрировал взаимное положение и движение небесных светил.
Лука изготовлял модели разных невиданных морских животных и внутренние органы их. Для этого шло все: воск, проволока, волос, картон, гусиное перо, дерево. Круглые части из дерева вытачивал я.
Для этих же лекций Лука вырезал из дерева большую коллекцию кристаллографических моделей, не исключая и очень сложных форм. В дополнение к этой коллекции я выращивал натуральные кристаллы из тех солей, которые легко было добыть за недорогую цену. Все они выращивались в химической лаборатории. Тут были квасцы, медный и железный купорос, поваренная соль, сода и поташ, нашатырь и много других.
Все эти приборы и коллекции, изготовленные для наших занятий, оставались потом в общем складе, который и послужил зародышем местного музея.
XXII. Весы.
Когда расширилось наше хозяйство, нам понадобились и весы. Всякое благоустроенное хозяйство нуждается в них.
Когда мы, например, спорили с Лукой, при каком посеве получится лучший урожай моркови, то спор этот решали только проделав опытный посев и взвесив полученный урожай на весах.
Когда мы потом завели кур, то взвешивали полученные яйца. Только весы убеждали нас в том, какая порода кур лучше несется, та ли, которая дает счетом много яиц, или та, которая дает меньше счетом, да крупнее по виду и по весу.
Настоящие весы были дороги и нам не по средствам. Только по доброте доктора мы получили от него маленькие аптекарские весы из аптеки для нашей
111
112
химической лаборатории. Но они там всегда и находились. А обыкновенные весы пришлось сделать нам самим.
Сделать деревянное коромысло на металлических опорах и к нему повесить на веревочках самые «чашки» ввиде квадратных деревянных дощечек — довольно легко. Но с разновесами дело сложнее.
Они всегда фабричного производства, и цифры на них клейменые. Вы сразу видите, какую гирю берете, — двух или трехфунтовую. Но эти гири были нам так же не по средствам, как и самые весы.
Мы начали делать свои разновески и для этого использовали всякие предметы, какие нам давали из лавки по весу: чай, сахар, ячменный кофе, табак, печенье. Эти предметы мы уравновешивали на весах.
Так, вымеривая и выверяя, мы получили все нужные величины. Затем, для себя я сделал маленькие холщевые мешочки и насыпал их сухим песком, пока уравновесится 1/4, 1/2, 1, 2, 3 фунта и т. д. На каждом уравновешенном мешочке помечал чернилами его вес.
Все эти разновески, конечно, не равнялись в точности клейменым, но они были близки к ним.
Самодельные весы, таким образом, были готовы. И они давали более правильный вес, чем безмен, который сделать было еще легче.
Как показывает самое название, безмен не требует гирь и смены их при вывешивании чего-нибудь. Точнее сказать, гири требуются только один раз, при устройстве самого безмена. А сделать его было просто, и один я сделал их несколько штук.
Безмен не дает такого точного веса, как весы. Но в нашем хозяйственном быту он требовался гораздо чаще, потому что он удобнее. Когда мы спорили об урожае и старались доказать друг другу, у кого дело идет успешнее и у кого овощи крупнее, нам достаточно было одного безмена.
112
XXIII. Географический глобус.
Получая разные пособия из Подвижного Музея, мы старались копировать все, что можно. И чем труднее была вещь, тем охотнее ее делали. Глобус для нас имел нехозяйственный, а научно-учебный интерес.
Делается обычно он фабричным путем, а сделать его вручную очень трудно. И вот потому-то, что делать его трудно, я и взялся изготовить его. Это был единственный глобус, сделанный мною. И я не жалел ни труда, ни времени на его изготовление. Если бы мне пришлось сделать еще второй, третий и пятый экземпляр, то дело, наверное, пошло бы и легче, и скорее.
Основой был шар, который я выточил на токарном станке из березы. Он был пустой внутри и потому из двух половинок. Пустой для того, чтобы он был полегче. А для этого я стенки шара сделал потоньше. Сверху поверхность шара была хорошо отшлифована.
Из дерева я сделал и точеную подставку, лакированную, только не черную, а малахитово-зеленую. В подставку я забил «земную ось» из латунной проволоки. Она установлена была, как и у всякого глобуса, с изгибом, чтобы дать оси необходимый наклон в 23°. В шаре проткнуты были два отверстия в точках полюса; шар надевался на ось и легко вращался на ней.
У южного полюса был надет на ось медный кружок величиной с копейку. По краю этого кружка я вырезал число и год, когда был закончен глобус, а также инициалы В. Н. Ф. (Вера Николаевна Фигнер), в подарок которой я и делал этот глобус. Такой же точно кружок, но без надписи, я надел на ось у северного полюса и заклепал его наглухо.
113
114
Таким образом, основа была готова. Нужно теперь превратить этот шар в глобус, а для этого надо нарисовать на нем материки и моря, раскрасить и сделать надписи. Все это делать на дереве нельзя. Следовало оклеить шар бумагой. Но как это сделать?
Для этого я смерил точно окружность шара посредине и нашел пятьдесят сантиметров. Сделал геометрический чертеж и по нему рассчитал, что, нарезав овальные полоски бумаги по три сантиметра шириной, мне придется употребить ровно двадцать кусков бумаги на оклейку всего шара. Все полоски будут совершенно одинаковы, и каждая полоска будет немножко находить одна на другую.
Решив так эту задачу, я нарезал ножницами по шаблону бумаги, сколько было нужно, и приступил к оклейке шара. Намазывая осторожно хорошим клеем каждую полоску отдельно, я прочно приклеивал ее на свое место, и если клей чуть-чуть выступал наружу, то осторожно стирал его чистой, влажной тряпочкой. Работа получилась чистая, и весь шар издали казался совершенно однородным, сделанным из бумаги. Только вблизи было видно, что он немножко полосатый.
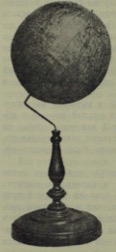
Теперь мне оставалось нанести на этот шар градусную сеть и проделать целиком всю работу по ри-
114
115
сованию географических карт. Т. е. вспомнить и выполнить ту работу, которую я когда-то изучал в школе больше двадцати пяти лет тому назад.
Когда все было нарисовано, надписи сделаны и раскраска окончена, я покрыл шар сплошным слоем белого лаку. Шар получил блеск точно такой же, как у настоящего глобуса. И мой глобус издали был совершенно похож на настоящий. Всякий при виде его думал, что этот глобус такой же фабричной работы, как и другие. Только нагнувшись ближе, можно увидеть, что надписи у него сделаны от руки, а не печатные, и что вся вообще работа ручная.
Этот глобус цел до сих пор, хотя немного и поврежден, и хранится в музее.
XXIV. Барометр.
В моей камере еще был один сожитель, беззвучный и малозаметный. На стене он занимал так мало места, что, оглядев камеру, его можно было совсем не найти. Он был малоподвижный и совсем не живой, хотя и двигался. Точнее, двигалась сама собой в нем ртуть. Сожитель это был барометр. В этом приборе ртуть редко стоит неподвижно. Обыкновенно она то поднимается, то опускается и тем обнаруживает, как опускается или поднимается вся атмосфера, как дышит незримая грудь земли и какую погоду обещает она нам на сегодня или на завтра.
С тех пор, как мы стали половину дня проводить на воздухе, вопрос о погоде приобрел для нас особый интерес.
Барометр у меня был самодельный. Сделать его было нетрудно. Нужно было добыть только ртути да толстую длинную барометрическую трубку. Точно предчувствуя гибель первого барометра, я купил две трубочки в метр длиной.
115
116
О том, как наливать в трубку ртуть, мы знаем из учебника физики. И я примерно так и сделал. Только я не кипятил ртуть в трубке, налив ее полную, а наливал маленькими порциями с перерывом и после каждой порции подогревал каждую новую налитую часть ртути на своей лампе с железной трубой. Подогревая, я наблюдал, как выходит воздух из ртути мелкими пузырьками, и каждый раз подогревал до тех пор, пока все пузырьки из ртути не улетучивались.
Но так как купленная ртуть оказалась не совсем чистой, то я предварительно промыл ее небольшими порциями на тарелке в воде, подкисленной соляной кислотой. А промыв, тщательно высушил на солнце. Наливать ртуть в трубку было легче через пипетку, которую я нарочно сделал для этого.
Прежде чем приступить к наливанию, я заготовил сначала самую шкалу, к которой будет прикреплена трубка со ртутью. Это была дощечка немного шире ладони, в восемьдесят сантиметров длиной. К нижнему концу ее под прямым углом была прикреплена сделанная мною из дерева четырехугольная «чашка» в виде корытца, а к верхнему — петелька, за которую барометр можно вешать на стену. Все это было выкрашено под орех и хорошо залакировано.
Налив тщательно трубку ртутью доверху, я опрокинул ее открытым концом вниз, заткнув его крепко пальцем, и, придерживая палец, погрузил этот конец в чашечку, которая была уже налита ртутью. Избыток ртути вытек в чашку, столб ртути опустился, качаясь вверх и вниз, и остановился без колебания на одной и той же высоте. Таким образом, обнажилась «торичеллиева пустота» в верхней части трубки.
Одновременно с тем, как я приготовил и шкалу для прикрепления барометрической трубки, наполненной ртутью, я приготовил и мерительную шкалку.
116
117
Это была узкая и тонкая линейка, оклеенная плотной белой бумагой с делениями на восемьдесят сантиметров. Верхнюю часть линейки от семидесяти до восьмидесяти сантиметров я разделил от руки на миллиметры и каждое пятое деление обозначил цифрой, т. е. 700, 705, 710 и т. д.
Прикрепив винтами наполненную трубку к шкале в неподвижном состоянии, я приставил к ней мерительную линейку. При этом я приложил ее конец как раз к поверхности ртути в чашечке. В таком положении я привинтил эту линейку к шкале и, взглянув на верхнюю часть ее, увидел, что моя ртуть в трубке стоит ровно против 756 миллиметров. Это и было воздушное давление сегодняшнего дня, почти на уровне Ладожского озера. Т. е. воздух сегодня давил на нас с такой тяжестью, с какой давит столб ртути высотой 756 миллиметров.
Когда барометр был готов, я сговорился со смотрителем повесить его у наружной двери, ведущей в тюрьму, под крышей. Я рассчитывал, что каждый товарищ, идущий на прогулку или с прогулки, может видеть здесь показание барометра. Смотритель не возражал. Я повесил барометр, и он провисел здесь месяца два.
Однажды ночью была сильная буря, и утром вахтер доложил мне, что мой барометр «упал» в буквальном смысле слова. Т. е. ветер сорвал его с гвоздя и бросил на каменное крыльцо. Трубка, конечно, разбилась, а ртуть разлилась на плитах. Выходя на прогулку, я увидал крушение моего, изделия и в большом горе подобрал в мастерскую все, что уцелело от него.
Погоревав несколько дней, я решил, что слезами горю не поможешь, начал делать новый барометр. Часть ртути еще уцелела, остальную я заказал купить вновь. Но хуже всего было с трубкой. В запасе она у меня была. Но, сделав первый барометр,
117
118
я решил, что она больше не нужна, и употребил ее на что-то другое. У меня оставался такой конец, который сантиметров на семь был короче, чем нужно.
— А что, — подумал я, — если я сделаю к ней надставку? Барометрическая трубка толстая: внутри ее можно просунуть тонкий карандаш.
Я подобрал короткую стеклянную трубочку такой толщины, чтобы она входила внутрь большой трубки с некоторой натугой. Вставив ее туда вместе с разогретой сургучной замазкой, я той же замазкой плотно обмазал место соединения трубок снаружи. После этого я обмазал это место клеем с клейстером и обмотал полоской плотной и крепкой бумаги, которую всю пропитал клеем. И, наконец, сверху, когда все это засохло, я обмазал лаком несколько раз.
Этой прочности, конечно, было достаточно.
И действительно, когда я наполнил эту инвалидную трубку ртутью и устроил новый барометр, то он действовал так же, как и со здоровой трубкой. Несколько дней я побаивался, не прорвется ли воздух в мою торичеллиеву пустоту. Но, видя, что барометр действует правильно, я успокоился.
Теперь я повесил барометр уже у себя в камере. И каждое утро, после раздачи кипятку, давал громкий сигнал в дверь, чтобы все прислушивались, а затем стучал число, которое показывал барометр.
Например, 741, т. е. жди дождя наверное.
Попов, купивший к этому времени уличный термометр, стучал цифру, какую показывал термометр.
Так в полном согласии у нас шло дело лет шесть. Не было ни одного дня, чтобы мы забыли огласить эти метеорологические сведения нашей собственной обсерватории. А я даже аккуратно записывал их каждый день.
Числа 8-го или 12 октября 1905 года, т. е. недели
118
119
за две до нашего освобождения, Попов простучал свой термометр, а я вслед за ним:
— Мой барометр упал!
На самом деле случилось вот что.
Накануне вечером, только-что я лег в кровать и в моей камере водворилась обычная мертвая тишина, вдруг я слышу странные, но резкие, тихие звуки.
— Буль!.. Буль!.. Буль!..
— Что это такое? — недоумевал я.
— Не капает ли кран над раковиной? — подумал я. Встал и ощупал.
Ничуть не бывало! Там совсем сухо.
Лег опять спать. Слушаю.
Те же самые звуки изредка повторяются опять.
Долго я соображал, но никак не мог догадаться.
— Что за чудеса!
И вдруг меня осенило.
— Да не барометр ли это?
Мигом вскакиваю, чиркаю спичку, подхожу к барометру и вижу самое «чудо» на месте его действия.
Маленькие пузырьки воздуха, пробившие, наконец, себе дорогу в месте склейки, медленно ползут вверх внутри трубки, между стеклом и ртутью, и, врываясь в торичеллиеву пустоту, булькают.
Такова была естественная смерть моего второго барометра. Целых шесть лет, около 2200 суток, подтачивал воздух крепость моей склейки, пробивал незримо себе проход в торичеллиеву пустоту, защищенную еще высоким столбом ртути. И, наконец, ворвался!
Здесь я получил хороший технический урок:
Самую прочную и основательную склейку нельзя считать прочной и вечной.
Хотя второй барометр упал навеки перед самым нашим освобождением, мы не сочли это за пророчество и продолжали жить последние дни в заточении как ни в чем не бывало!
119
XXV. От добывания огня — к электрической машине.
Наши курильщики немало ломали себе голову прежде, чем добыли настоящее огниво и научились быстро высекать огонь, когда нужно закурить. Я не был в их числе и не тратил труда над тем, что мне не было нужно. Я вырос в деревне тогда, когда спичек еще не было, и хорошо знал, как это делается.
Но зато я углубился в доисторические времена, когда люди еще не знали железа и добывали огонь трением. Я вспомнил, что даже Дарвин интересовался этим первобытным способом, который в его время существовал еще кое-где у островитян. Почему бы и мне не попробовать этого первобытного искусства, раз оно поддерживало когда-то культуру человечества в течение целых тысячелетий.
Не удастся ли мне в наш изобретательный век добыть огонь трением скорее, чем дикому человеку? Я видел на картинках, как просто то приспособление, которым пользовался дикарь для того, чтобы тереть дерево о дерево. Но я не удовольствовался тем, что знал из книг, и сочинил собственную «машину трения».
Я установил на низком станке на вертикальной оси деревянное колесо с полметра в поперечнике и укрепил на нем рукоятку, чтобы вращать колесо. По окружности колеса проходил ремень, который был перекинут вокруг вращающегося деревянного стержня. Этот стержень был заострен и помещен в углубление. При вращении колеса он будет тереться в углублении. А при быстром вращении это трение во много раз усилится и должно зажечь стержень.
С большим интересом я завертел свою машину и стал считать секунды, ожидая, что каждую минуту ко мне снизойдет невидимый огонь с неба. Я скоро уви-
120
121
дел, что мой стержень задымился, затем обуглился: при этом сильно нагрелся, но не загорелся, хотя дым валил столбом. И сколько я ни старался, так мне и не удалось добыть огонь трением. Прямо оскандалился!
Первобытные люди умели добывать огонь трением еще сто тысяч лет тому назад.
А мы, избалованные спичками, утратили навсегда их науку.
Мне не пришли тогда в голову две вещи: во-первых, испробовать стержни из разных сортов дерева, от самого крепкого до самого мягкого, и во-вторых, прижимать стержень в ямку по-разному, то слабее, то крепче.
Тогда, может быть, мне удалось бы добыть огонь. Года через четыре после этого я построил другую машину трения, но совсем для иного дела. Посредством этой машины я хотел добывать электричество, и подобную машину мне когда-то демонстрировали в школе на уроках физики.
Только та машина была Крупнее и давала довольно внушительный заряд. Мне же хотелось добыть хоть самую маленькую искру, но обнаружить ее своим собственным трудом.
Обдумав мою будущую машину во всех подробностях, я стал строить ее.
Самой крупной частью ее был деревянный цилиндр, полный внутри. Это — будущий «кондуктор». Чтобы сделать его металлическим, я оклеил его листовым оловом и поставил на досчатую подставку двумя стеклянными ножками. Ножки были деревянные и только проходили внутри двух обломков ламповых стекол. В один конец этого цилиндра я воткнул кончик толстой латунной проволоки, который оканчивался оловянным шариком. К другому концу цилиндра-приспособлена была сделанная из латунных проволок «гребенка».
121
122
Она должна была собирать электричество с вращающегося стекла и переводить его на цилиндр.
Это вращающееся стекло было верхом моей изобретательности. Я скажу только, что мне удалось, во-первых, разными способами обделать бемское стекло в круглую форму и, во-вторых, просверлить в центре его дырку посредством наждака и вращающейся палочки. В эту дырку я потом пропустил ось, на которой и установил вращение колеса.
При вращении оно терлось о две замшевые подушки, натертые ртутной амальгамой. Для подушки я выпросил у жандарма рваную замшевую перчатку. Амальгаму же сделал сам из ртути и олова. Эти металлы были в нашей лаборатории.
Когда все было готово, я привел круг во вращение и, подставив палец к шарику кондуктора, получил маленький щипок в него, очень заметную искру и слабый треск.
Ура! Я получил гром н молнию! Что ж из того, что они очень слабые! Важно то, что я их все-таки получил и могу теперь показать кому угодно.
К этой машине я присоединил много различных приспособлений, какими можно было обнаруживать действие электричества. Оно вертело «электрическую мельницу», отклоняло пламя свечи, притягивало и отталкивало бузинные шарики (из собственной бузины), подвешенные на двух шелковинках, и т. п.
Мой успех в деле электрификации раскачал и малоподвижного Луку, с которым в это время мы работали вдвоем. Он всегда брался за работу либо особо фундаментальную, либо особо сложную.
Так, например, он сделал для переплетной огромный пресс, вырезывал сложной формы модели кристаллов.
А теперь, соблазненный мною, он задумал соорудить не более, не менее как динамомашину.
122
123
Правда, мощность ее должна быть очень скромная, потому что размеры ее были немного больше моей машины трения. Но тут интерес был не в мощности (куда же было нам девать полученную энергию), а в том, выйдет ли у него что-нибудь и будет ли его игрушечная динамо давать хоть какой-нибудь ток.
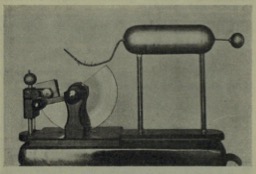
Для вращения он сделал простое деревянное колесо около двенадцати дюймов в поперечнике, установил его на горизонтальной оси и приспособил железную ручку. Вращать колесо можно было только вручную. От этого машина, конечно, сильно проигрывала, так как вращение здесь было нужно быстрое.
Но самую большую работу задало ему колесо Грагама и обмотка его проволокой. Много дней провозился он над ним, удивляя даже меня своей настойчивостью.
123
124
Как бы то ни было. Лука, наконец, добился того, что его машина дала слабенький ток. Этот ток звонил в маленький звонок и проявлял искру- Найти маленькую лампочку, чтобы зажечь ее, нам не удалось.
XXVI. Семена в стекле.
Эта операция задумана была мною в порядке работ по коллекционированию.
Гербарии, которых я сделал немало, иногда сопровождались семенами. Тогда приходилось задумываться о том, как лучше поместить их здесь. Ведь ни нашить, ни наклеить их нельзя. А я продолжал неутомимо собирать их.
Но в 1902 году, в смутном предчувствии освобождения, мысли мои приняли другое направление.
— Положим, нас выпустят отсюда. Но, конечно, не на полную свободу, а в места более или менее отдаленные. Там все равно придется как-то жить и, может быть, придется уже на просторе делать такие лее посевы, какие мы делали здесь в тесноте. А если так, то прежде всего понадобятся опять семена. Будут ли они там?
— Хорошо, если бы удалось взять семена отсюда! Тогда здешнюю флору мы могли бы насадить в других местах.
И вот передо мной опять новая задача.
Как бы запаковать семена так прочно, чтобы упаковка дорогой не растрепалась, чтобы семена не рассыпались, а самое главное — не подмокли при всяких случайностях далекого пути. Хотя бы самому и пришлось промокнуть насквозь со всеми вещами!
У меня уже был опыт, который я решил теперь применить к семенам.
Консервируя мелких насекомых, их личинки и куколки, я нередко брал тонкие стеклянные трубочки,
124
125
внутри которых и помещал эти мелкие препараты. Делал это я так:
Брал трубочку произвольной длины и отжигал от нее кусок сантиметров в десять, то есть расплавлял ее на свечке паяльной трубкой и отламывал трубку в мягком состоянии. Одновременно кончик ее округлял в пламени и получал в запаянном виде. Затем вкладывал в нее нужную личинку, впускал туда пипеткой несколько капель формалиновой воды и перерезал эту трубку пламенем пополам, как это делал и с пустой трубкой.
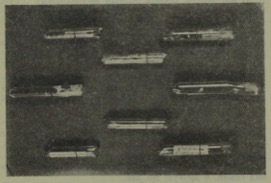
Делал это как можно скорее, чтобы концы трубочки не успели нагреться и чтобы их можно было держать голыми руками.
На всякий случай, чтобы жидкость не успела нагреться и закипеть, я брал этот конец трубки не голой
125
126
рукой, а кончиком тряпки, намоченной в холодной воде.
Таких препаратов с насекомыми я сделал до полсотни и приобрел в этом деле большой навык.
Применить этот способ к семенам было еще легче, потому что семена сухие. А мокрая тряпочка была тоже нужна, чтобы трубка около них не накалилась и семена не пригорели.
И вот теперь, собрав полный набор свежих семян, частью купленных, частью своего сбора, я приступил к запаиванию их в стекло. Заделка эта хорошо удается только с тонкими трубочками, потому что толстые плавятся медленно и концы сильно накаливаются. А потому крупных семян, как бобы, горох, тыква, я не мог брать.
Занимался я этой работой по вечерам, перед отходом ко сну, когда в тюрьме были заперты все окна и двери, и никакой сквозняк не мог меня беспокоить.
Не помню, по сколько трубочек я запаивал ежедневно. Но знаю только, что потратил на это дело не один десяток вечеров. Одни семечки были крупнее, другие мельче. И трубочки были также неодинаковы. Поэтому в одну трубочку я закладывал только один вид семян, в другую же два.
Тотчас после запайки я писал чернилами название растения (по-русски или по-латыни) на узенькой полоске бумаги, которая была уже заготовлена, и наклеивал ее вдоль трубочки, которую только-что запаял.
Так нарастал, да нарастал мой запас трубочек с семенами. Когда я составил список их, то семян у меня набралось сто два названия.
Здесь были главным образом садовые растения: декоративные, фруктовые и ягодные. Семена малины, клубники, земляники, смородины, крыжовника я брал прямо из ягод, конечно, высушив их.
126
127
После освобождения нам удалось избежать ссылки в дальние края. А потому и мои семена далее пределов Петербурга никуда не попали. Большая часть их до сих пор сохраняется у меня в том же самом виде.
Через два года истекает двадцать пять лет с того времени, как были собраны и запаяны в стекла эти семена. Насколько мне известно, никто никогда не хранил семена впаянными в стекла. Здесь они хранились так крепко, что ни малейшее влияние воздуха не проникало к ним за все это время.
Теперь интересно было бы знать: живы ли еще эти семена или умерли? Взойдут они или нет? Или одни взойдут, а другие нет? И если так, то какие взойдут, а какие нет?
Быть может, к двадцатипятилетию я подготовлю научное испытание этих семян на всхожесть. И тогда история семян в стекле совсем закончится.
127
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
XXVII. Как мы создавали животных.
Эта задача была потруднее той, которую решали мы, создавая уголок живой растительной природы.
Когда мы поселились на своем острове, он был настоящим островом мертвых. Отсюда было удалено все, что могло бы напомнить о жизни и житейских впечатлениях, а тем более животные.
Животные могут нарушить тишину. А здесь она должна быть мертвая, нерушимая, могильная…
Как же допустить, чтобы в этом царстве смерти вдруг раздался задорный, нахальный, неунывающий крик петуха?
Несколько раз мы пробовали хлопотать, чтобы нам разрешили разводить кур, и всякий раз получали бесповоротный отказ:
— Нельзя!
Без объяснения причин.
И вот, на зло этому отказу, руководствуясь постоянным стремлением сделать что-нибудь такое, что еще не было испробовано и чего никто не умел делать, я задумал сам создать кур.
— Пусть, — думаю, — мои куры застанут начальство врасплох. Посмотрим, что тогда оно скажет!
128
129
В журналах я читывал, что существуют инкубаторы для искусственной выводки цыплят. Конечно, по законам природы достигнуть этого легко. Нужно только построить такой аппарат, в котором легко бы получалась температура курицы. И эту температуру нужно поддерживать непрерывно на одном и том же градусе. Но делать аппарат довольно долго. А нельзя ли как-нибудь попроще?
Полагая, что температура курицы такая же, как и у человека, я решил согревать куриные яйца, нося их на животе.
Стоял холодный октябрьский день. Не говоря никому о своем решении, я попросил заведывающего кухней дать мне пару сырых яиц вместо ужина. После ужина я взял полотенце и привязал им к голому животу оба яйца. Затем, привел в порядок костюм, так, чтобы никто ничего не заметил.
Осторожно раздевшись, я лег спать. Я мог свободно лежать на спине, не задевая яиц. Сначала было неловко, а потом привык.
Так я носил семь суток эти яйца. Но на седьмой день я почувствовал отвратительный запах и потому решил продолжать свой опыт только до утра. Утром, как только встал, я развернул полотенце, да так и ахнул: одно яйцо было совсем раздавлено, и его тухлая жидкость испачкала полотенце. Другое же яйцо я разбил сам, но и оно оказалось не совсем свежим.
Тут только я вспомнил то, что в деревне хорошо знал, а именно: яйца для насиживания надо брать совершенно свежие, недавно снесенные!
А в октябре наша кухня, конечно, не могла иметь таких яиц.
Усомнился я также и в том, что моя температура не меньше куриной. Порывшись в справочниках, я нашел, что теплота куриного тела почти на два градуса выше, чем у человека. Значит, моей теплоты все
129
130
равно было бы недостаточно, чтобы оживить самое свежее куриное яйцо.
Эта неудача только раззадорила меня, и потому я решил итти более верным путем и принялся за инкубатор. Вероятно, где-нибудь в журнале я встретил заметку об устройстве инкубаторов, но чрезвычайно краткую: она давала мне одну идею и не давала никаких указаний для осуществления ее.
Никакого полного руководства у меня не было, и я провел немало вечеров и бессонных ночей над тем, чтобы решить, как лучше приспособить теплую воду для нагревания яиц в инкубаторе.
Составив приблизительный план, я спаял из жести две плоских цилиндрических чашки. Одна была уже другой на три дюйма и ниже на полдюйма. Если в большую налить воды, то меньшая будет плавать в ней. Я установил меньшую в таком положении, как будто она плавает посредине большей, и в этом положение впаял ее внутри.
Получился сосуд с двумя стенками и двумя днами, у которого промежутки между ними можно наполнить водой. Если такой сосуд установить над керосиновой лампой, то она будет непрерывно нагревать воду и можно будет довести ее до 40°. Тогда внутренность сосуда под крышкой, а значит и яйца, которые будут положены туда, нагреются до 39°. Т. е. настолько, насколько нагревает их сама курица.
Чтобы вода из промежутков между стенками не расплескивалась, я закрыл жестью все водяное помещение и наглухо запаял. Получился сплошной сосуд с водяными стенками и дном, которые были всегда сухи.
Этот сосуд я вставил потом в деревянный ящик, у которого стенки были обиты сукном для сохранения тепла, а в дне был вырез, чтобы обнажить жесть для нагрева лампой.
130
131
Внутри укладывалось двенадцать яиц, на яйцах помещался термометр, и все это накрывалось плотной войлочной крышкой.

Я попросил заведывающего мастерскими жандарма, который держал кур, дать мне двенадцать отборных яиц, недавно снесенных. За яйца я обещал ему сделать какую-то учебную коллекцию для его детишек. Это было в конце мая.
Я испробовал свою небольшую керосиновую лампу с линейной горелкой и убедился, что она может нагреть воду до 420. Нагрев воду до 40°, я заложил яйца, накрыл крышкой, и ровно в 9 часов утра 29 мая началась моя инкубация.
К этому времени я занял для спанья вторую камеру. Нас теперь было мало, и камеры пустовали. В этой спальной у меня ничего не было, а потому я и поставил здесь инкубатор.
В ногах кровати я установил небольшую подставку, а на нее — свой аппарат. Под аппарат прямо на пол поставил лампочку, зажег
131
132
ее, и в таком состоянии, не меняя места весь прибор действовал двадцать три дня.
Первый день прошел весьма спокойно. Где бы я ни был, я каждый час приходил проверить, как действует лампа и сколько показывает термометр.
Но наступила первая ночь, полная волнений и тревожных ожиданий.
— А что будет, если я засну и не проснусь до утра? Что, если лампа нагорит, начнет чадить, потухнет совсем, или потеряет яркость пламени и будет греть слишком слабо? Ведь первая же ночь и будет моим первым скандалом!
— Или уж отказаться совсем от сна? Устроить ночное дежурство. Переменить ночь на день и по ночам сидеть с книгой, а днем ложиться спать?
Долго я колебался, как быть, и в конце концов решил положиться на свою чуткость и лечь спать.
Спать-то я лег, но как я спал? Я просыпался раз шесть, чуть не каждый час. Я спал так, как спит мать у кровати больного ребенка. Один глаз спит, а другой боится, не уснуть бы слишком крепко.
Два или три раза я вставал к своему аппарату, открывал его, взглядывал на термометр и снова засыпал, убедившись, что все идет правильно и что беспокоиться было нечего.
Наконец, на-свету я заснул особенно крепко. И вдруг вижу, ясно, как наяву, что моя лампа, действительно, нагорела и потухла. Я встал, чтобы ее освидетельствовать, увидел, что температура упала до двадцати пяти градусов и… в ужасе проснулся. Это был только сон!
Мерцающий огонек показал, что все идет благополучно. Но я все-таки встал, чтобы убедиться, что тревога моя напрасна.
С этих пор я надолго потерял свой покой.
Целых восемь дней я спал также беспокойно, как
132
133
и первую ночь. Сны подобного рода повторялись и будили меня каждый раз. как только я засну покрепче.
Настал долгожданный девятый день. В этот день мне надо было испытать яйца в особом приборе и узнать правильно ли у меня идет дело. Я больше всего боялся, что те колебания в температуре на один — полтора градуса, которые иногда случались и днем и ночью, будут смертельными для моих будущих цыплят.
И вот я приступил к осмотру «насиженных яиц».
Я спрятал электрическую лампочку внутрь жестяной трубки, а в другом конце этой трубки установил яйцеобразный прорез.
С большим волнением я взял первое яйцо из инкубатора, приставил его к прорезу и прильнул к нему глазом. У меня при этом так дрожали руки, что я чуть не уронил яйцо.
Я никогда не забуду того, что я увидал. Это был настоящий зародыш. Но еще маленький, еще совсем не похожий ни на какого цыпленка. Весьма странные и интересные нити, розоватые, в роде кровеносных сосудов, ясно показывали, что началась какая-то новая жизнь внутри этого яйца, и что эта жизнь находится в полном развитии. Это уже не яйцо! Цыпленок здесь уже зародился. И мой аппарат, значит, действует не хуже настоящей курицы.
Таким образом, одно за другим, я пересмотрел все двенадцать яиц. Только два из них были совершенно прозрачные, о которых с уверенностью можно сказать, что в них ничего не началось. Эти два прозрачные яйца я вынул из аппарата, а над остальными продолжал инкубацию до конца.
Я убедился, что аппарат мой действует прекрасно.
И если я не напорчу дела в остальные двенадцать дней моего труда, то цыплят теперь я получу, без всякого сомнения!
133
134
К концу инкубации мои волнения усилились. И роковую последнюю двадцать первую ночь я провел совсем без сна. Мне не терпелось. И на восходе солнца я уже внимательно осмотрел яйца. Но увы, ни одно не наклюнулось! Потом я осматривал их каждые два часа и не знал, как мне дождаться.
До двенадцати часов я еще не раз пересмотрел их, но так же тщетно. Я уже готов был впасть в отчаяние. Но, пересмотрев снова во втором часу дня, я вдруг увидал одно яйцо с наклевкой!
Нет, я не в силах описать тот восторг, в какой привела меня эта наклевка. Я победил природу! Я выси-дел цыпленка! Я создал живое существо, которое без меня никогда бы не появилось на свет! Я убедился сам, насколько могуч человек даже в такой несносной и тяжкой жизни, на какую обрекли здесь нас.
В конце концов у меня вышли девять цыплят, из которых два были хилыми и скоро умерли, а семь были вполне настоящими.
Таким образом, теперь я совсем превратился в курицу и должен был воспитывать своих цыплят. Самое интересное и самое забавное было то, что они следовали за мною всюду безотлучно. А ночью залезали ко мне под одеяло, чтобы погреться.
Эти труды по ухаживанию были более беспокойными и более продолжительными, чем труды по инкубации.
Можете себе представить тот переполох, который произошел у начальства, когда в моей одинокой камере вдруг появилось стадо цыплят. Оно искренно думало, что у меня ничего не выйдет, и потому не беспокоилось, пока я нагревал свой аппарат.
— Все равно, мол, ничего у него не выйдет!
И вдруг вышло! Вышло семеро цыплят!
Ни комендант ни смотритель не решились притти ко мне по куриному делу.
134
135
— Эка невидаль! Вылупились из яиц цыплята!
Но они, несомненно, никогда не видывали этого.
И им казалось невероятным, чтобы цыплята вдруг появились в пустой камере, где уж много лет под ряд они привыкли видеть в глазок одного только узника.
А тут — на, поди!
В утренний час, когда июньское солнце залило своим ярким светом всю камеру, они посмотрели в глазок и невольно залюбовались невиданным зрелищем. Одинокий узник сидит на чистом полу, окрашенном охрой, а около него и по нему бродят, лезут и прыгают маленькие, желтенькие, пушистые цыплята!
Бегают, клюют пшено, собирают отдельные крупинки и совсем не замечают, что куриной «матери» у них нет.
Что теперь делать начальству? Как быть дальше? Цыплята мои собственные, почти мои дети, мои воспитанники, с которыми я делился хлебом со своего стола. Они — мое произведение и отнять их у меня нельзя! Значит, надо определенно сказать, что разводить кур теперь не запрещается! Больше ничего не оставалось!
Так и вышло. Не успели еще мои цыплята стать курами, как один товарищ в порядке хозяйственных расходов добился разрешения и приобрел петуха и курицу. Неожиданно для нас в коридоре старой тюрьмы, где в это время стояли открытыми двери наших мастерских, появилась пара кур. И петух, не смущаясь тем, что он попал в каземат, весело закричал во все свое петушиное горло:
— Ку-ку-ре-ку!
Сенсация была всеобщая! Ведь иной из наших товарищей не слыхал таких звуков ровно пятнадцать лет!
Таково было начало куроводства. Нужно было где-нибудь устраивать кур и, разумеется, не в камере.
135
136
За первой парой кур пошла вторая, третья и т. д. И все разных пород! Надо было не только помещать их, но и размещать. И началась у нас стройка самых фантастических курятников.
Один только основательный тов. Флоренко сразу взглянул на дело хозяйственно и приступил к постройке бревенчатых стен для своего курятника. Весь свой огород он отрядил под курятник и устроил его со многими самостоятельными отделениями.
Через год у него весь двор был усеян цыплятами, так что трудно было пройти, чтобы не раздавить этой птичьей мелкоты. Но у него все цыплята были естественные.
Все это куроводство, несмотря на блестящие успехи, кончилось крахом. Мы забыли, что мы бесправные узники и живем под строжайшим надзором и что начальство может сделать с нами все, что ему заблагорассудится. Начались новые притеснения, которые принесли нам много горя и лишили нас прогулки. Поэтому пришлось поневоле ликвидировать сразу все животноводство.
У нас не было детей. Не было беспомощных существ, которые нуждались бы в нашем попечении. Нам негде было проявлять те чувства, которые называются общим именем — «любовь к беспомощному». Воспитание цыплят до некоторой степени пробуждало в нас эти чувства и заполняло существенный недостаток нашего быта. Но так продолжалось всего несколько лет. Безжалостная судьба быстро и окончательно прервала наше общение с домашней птицей, над которой мы провели несколько интересных наблюдений.
Раньше кур и одновременно с курами некоторые товарищи воспитывали кроликов, которых охотнее допускали в наше мертвое царство.
Но эти безгласные животные не внесли к нам ни-
136
137
какого оживления. Их новое поколение появилось под землей, недоступно для нашего глаза. Их молодая жизнь почти терялась для наших наблюдений. Взрослые и молодые были необыкновенно глупы и страшно пугливы. Они ни с какой стороны не могли пробудить к себе интереса, и потому, за немногими исключениями, мы были очень равнодушны к этой породе четвероногих. Их исчезновение из нашей жизни прошло почти незамеченным, и эта утрата не вызвала печали.
В год наибольшего размножения животных никто из нас ни разу не попробовал ни кроличьего ни куриного мяса. Такого смертоубийства никто не хотел учинить над своими воспитанниками.
XXVIII. Ручные птицы.
В тюрьме свободные птицы невольно притягивают к себе внимание и взоры узника. Сидишь словно прикованный к земле, почти недвижимый, а порывы твои мчатся и ввысь и вдаль. Но природа не дала человеку крыльев, а мы, кроме того, лишены были и свободы вообще.
А птицы, словно дразня и маня за собой, свободно перелетают недосягаемую стену и мчатся куда-то в неведомую даль.
Вот наш голубь, недовольный чем-то, посидел, посидел в раздумье на заборе и взвился на простор. По его полету сразу видно, что он задумал дальний путь. Глаз мой невольно следит за ним и видит, что он полетел как раз в том направлении, откуда доносился до нас в праздники колокольный звон.
— Ну, значит, полетел в город!
Не пройдет и двух минут, как он будет там и сядет где-нибудь на рынке подбирать зерна. Наши заповедные преграды — стены и вода — для него не существуют.
137
138
При виде этого невольная зависть закрадывается в сердце. И в сотый раз ты готов воскликнуть:
— Ах, зачем я не птица!
Голуби были первой птицей, которую мы стали прикармливать. Это случилось само собой, потому что они и так были наполовину ручные. Мы только приучили их брать хлеб прямо из рук, либо изо рта, сидя на плече. А один товарищ (Поливанов) приучил их летать и в камеру. Одна пара даже свила у него в вентиляторе гнездо и выводила каждый год птенцов.
С воробьями было труднее. Недаром сказано:
— Старого воробья на мякине не проведешь! Даже на хлебе!
Но мы и не собирались их обманывать. Мы старались только приманивать. Птицы очень чутки в этом отношении и прекрасно чувствуют, кто их враг и кто друг. И очень скоро они привыкли отличать нас от жандармов.
Одежда-то у нас была разная!
Главным учителем был, конечно, голод. Летом воробьи не обращали на нас ни малейшего внимания. Но вот наступила осень. Мы были свободны от летних работ и становились внимательнее к воробьям. А они голодны. Бывало, вынесешь с собой хлеб, черный и белый, и если пришел на прогулку первым, то вся стая воробьев слетается к твоему огороду. Они всегда стаей.
Так смелее!
Пока я стою, воробьи сидят на заборе. Я сел на скамью, и воробьи, словно по команде, расселись на земле вокруг меня. Сначала аршина на два, не ближе.
Я сижу и бросаю крошки хлеба недалеко от своих ног. Воробьи колеблются. Голод их тянет к хлебу, а страх сковал их и держит в неподвижности. Нако-
138
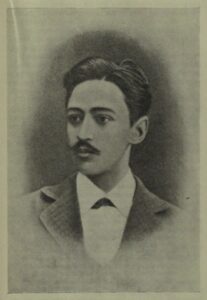
ПОЛИВАНОВ, ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ
Еще гимназистом в Саратове он организовал в 1877 году революционный кружок и был потом сослан в Вологодскую губернию. По окончании ссылки в 1880 году, он возвратился в Саратов и 16 августа 1882 года задумал освободить с оружием в руках своего товарища Новицкого, когда его везли на допрос, но тотчас после перестрелки был схвачен прохожими. Осужденный 23 сентября 1883 года военным судом на смерть, он был пожизненно заточен в Алексеевской равелине Петропавловской крепости, откуда переведен в Шлиссельбургскую в 1884 году, где написал ряд прекрасных стихотворений. Сосланный в 1902 году в Степное генерал-губернаторство, он вскоре бежал из ссылки и уехал в Париж, где застрелился, отчаявшись увидеть наступление революции.
Николай Морозов.
141
нец, самый храбрый нацеливается, порхает к той крошке, которая поближе к нему, хватает ее и во всю прыть улетает. Остальные словно ждали этого сигнала и один за другим, подражают его примеру.
Это передовые. Они и впредь будут задавать тон в деле приручения и докажут всем прочим, что здесь страх неуместен.
Но самые осторожные пока не поддаются. Они будут сидеть либо на земле, либо на заборе и ждать, пока я встану, чтобы походить. Тогда они наскакивают на крошку каждый раз, как увидят меня на приличном расстоянии.
Но у всех воробьев осторожность проявляется иначе, если я бросаю им не черный, а белый хлеб. Этот хлеб они готовы хватать почти из-под ног и за лакомый кусочек бросаются в драку друг с другом. Еще быстрее набрасываются они, если я бросаю им не хлеб, а макароны. Одну ленту захватывают втроем и с криком тянут в разные стороны. Тут уж они забывают всякую осторожность.
Забавно смотреть на эту свалку, в которой дикие воробьи превращаются в домашних цыплят.
Но вот пришла суровая зима. Морозное утро. Едва рассвело. Выходишь к своему месту, — воробьи уже ждут. Сядешь, а воробьи вспорхнули и сели у самых ног. Ныряют в рыхлом снегу и смотрят, как я, протянув ноги, крошу хлеб у себя на коленях. И едва я отнял руки, как вся стая усаживается на коленях и быстро опустошает заданный корм.
Но понимают, бестии! С колен берут, если на них не лежит рука. Тогда я беру из-за пазухи кусочек белого хлеба и протягиваю руку в воздухе:
— Кто хочет?
Воробьи немного колеблются, и вдруг самый храбрый взлетает, садится на голую руку и вытаскивает из пальцев хлеб. Они прекрасно различают, маленький
141
142
кусок или большой. Рискуют смело, если добыча стоит того. За маленьким же кусочком не идут.
Наконец, привыкнув к этому маневру, они смелеют еще больше и тогда берут белый хлеб прямо изо рта, как и голуби. Но за черным хлебом воробьи сюда ни за что не полетят.
— Да, старого воробья на мякину не приманишь!
Еще скорее, чем воробьи, приучались синицы. Они летали редко вдвоем. Больше поодиночке. Если вдвоем, то не отнимали друг от друга. Ручными делались тоже от мороза. Но зато ручными вполне, без «воровских» замашек.
Они залетали под навес. Садились на книгу, которая лежала на столике, и спокойно ждали добычи. Черного хлеба совсем не брали. Больше любили макароны. А еще больше голландский сыр. Ради сыру они также садились на плечо и вынимали его изо рта.
Так жаль, что у нас не было фотографического аппарата, чтобы запечатлеть эту редкостную картину. Глядя на нее иногда из окна камеры, со стороны, сам не можешь надивиться, до чего умны и чутки эти мелкие пташки. Как быстро они узнают, что мы не обидим их. И как легко делаются домашними!
Но зима проходит. Снег начинает таять. В воздухе с каждым днем теплеет. Наша стая понемногу редеет. Синицы улетают совсем. Но воробьи остаются возле нас, в щелях старинных стен. Только к нам уже не залетают. Опять до следующей осени.
Труднее было с ласточками. Эти попадали к нам совсем беспомощными птенцами.
Жили ласточки под карнизом старинной стены, и их гнезда там держались не очень крепко. Обыкновенно после бокового дождя или сильного ветра гнездо с птенчиками падало в огород, в густую траву.
Кто-нибудь из нас находил их и брал на воспитание. Обыкновенно этим занимался наш товарищ
142
143
Антонов. У кузнечного горна загрубели его руки, но сердце у него осталось нежное.
Подобрав птенцов, он бросал всякую работу и занимался только ими. А кормление птенцов — работа весьма беспокойная.
Антонов брал маленькую корзинку, устраивал гнездышко, укладывал внутри вату, усаживал птенцов и закрывал какой-нибудь мягкой и теплой рухлядью.
Голенькие, они грелись, прижимаясь друг к другу, скоро затихали и закрывали глаза.
Самое главное было — научить их есть. Кроме летающих насекомых, они не едят ничего. Крупные мухи, которых в огороде было больше всего, для них были непривычны. Открывают рты они только тогда, когда почувствуют прилетевшую к ним мать. Из толстых же пальцев кузнеца им брать никогда не приходилось. Голодают, но не едят.
Наконец, он наловит мух, берет птенца за носик, открывает рот, дает муху и заставляет глотать. После трех-четырех опытов птенцы начинают сами раскрывать рот. И тогда —только давай!
Если птенцов пятеро и каждому нужно до десятка мух, то сосчитайте, сколько их надо поймать каждый день. Когда подрастут, понадобится еще больше.
Идут дни за днями. Воспитатель и его воспитанницы уже сжились друг с другом, и один без другого жить не могут. Но вот они оперились, окрепли и все чаще и чаще стали поглядывать на небо, на порхающих там ласточек. Самая крепкая начинает уже вытягивать крылышки.
Вытянет во всю длину одно крыло и растопырит все перышки. Затем другое. Погодя немного — снова.
Очевидно, пробует свой летательный аппарат, в порядке ли он и прочен ли.
После нескольких испытаний она садится на ребро корзинки и вдруг взлетает. Если силенка еще мала
143
144
она тут же садится, на заборе, а погодя немного возвращается в корзинку. На завтра она снова полетят и уже гораздо выше. Если она сильнее, сразу же взлетает вверх, и ее там, в воздухе, окружают другие ласточки. Но наша быстро утомляется, спускается почти отвесно над головой Антонова и усаживается в гнездо.
На следующий день пробный полет повторяется и продолжается гораздо дольше.
Антонов высоко над головой поднимает корзинку, выставляет напоказ и заманивает ласточку опять в гнездо.
Но в третий раз она улетает уже безвозвратно. Иногда бывает так, что на призыв Антонова она опять спускается к нему, делает несколько быстрых кругов у него над головой, но, как бы раздумав, поднимается опять ввысь, вмешивается в стаю ласточек и исчезает уже навсегда.
Остальные птенцы, один за другим, точно так же покидают гостеприимное гнездо и улетают на свободу.
XXIX. Домашний певец.
Хотя мы и создали у себя зеленый уголок природы, но он был так мал, что певчие птицы залетали сюда только на время, а не селились у нас: им было слишком тесно.
Скворцов же мне все-таки удалось заманить к себе в огород, но и то не сразу. И они вначале боялись.
Даже для того, чтобы поставить скворешницу, прежде всего нужно было получить разрешение. Взяли хорошую длинную жердь. Самый ящик, называемый скворешницей, я сделал в столярной скоро. А чтобы в углах не продувало, замазал их еще замазкой. Может быть, запах ее в первое время и отпугивал скворцов.
144
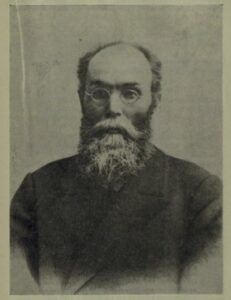
АНТОНОВ, ПЕТР ЛЕОНТЬЕВИЧ
Родился в 1859 году в рабочей семье. Окончил ремесленное училище и присоединился к революционной организации на юге Европейской России. При его участии была устроена в Ростове-на-Дону подпольная типография в 1884 году. Арестованный I мая 1885 года в Харькове, он был осужден на смерть военным судом 26 августа 1887 года и заточен на всю жизнь в Шлиссельбургской крепости, где особенно усердно занимался историческими науками. После освобождения из этой крепости в 1905 году он уехал на юг, где и умер в 1916 году.
Николай Морозов.
147
Было начало марта. Я прибил скворешницу к верхушке шеста, который принес в огород, установил лестницу и при помощи дежурного жандарма прибил жердь к столбу, который возвышался над нашими заборами.
Но в эту весну я не видал скворцов. Весьма возможно, что разведчики их прилетали без нас, ранним утром, и забраковали мой домик.
Пришла вторая весна. Скворцы залетели. Спускались внутрь то один, то другой. Осматривали домик со всех сторон.
Но все-таки не поселились и улетели.
Наступила зима, и воробьи, видя пустующий дом, заняли его и поселились в нем на зиму. Они поняли, что здесь будет теплее, чем в какой-нибудь каменной дыре.
Пришла третья весна, и опять появились скворцы, но уже не одна пара. Видя, что их дом занят, они повели атаку против захватчиков. Три дня под ряд мы наблюдали у себя в огороде настоящие баталии. Сила была не на стороне воробьев, хотя они и крепко засели внутри. Но как храбрая нация они уступили свои владения только с бою.
Скворцы поселились парой, устроили гнездо и стали услаждать нас своим пением. Пел, конечно, один самец. И здесь на полном досуге в первый раз в жизни мы наслушались пения скворца. Приятно было уже то, что у нас это была самая ранняя из певчих птиц. К первым цветам, которые украшали наш огород в парнике, под шорох ладожского льда нам как раз нехватало певчей птицы. Запах гиацинтов, яркий ковер цветов и бесконечные трели скворца, — все это создавало весну так рано, как она никогда не бывала у нас.
Скворец поет долго и увлекательно. Его призывные, ликующие звуки, его самозабвение, с которым
147
148
он отдается пению, уносит нас в новый мир музыкальных звуков, чуждый для нас в этом мертвом царстве. Неожиданно в наш мир вошли призывные, радостные, торжествующие звуки. Эти звуки, как гимны вновь возрождающейся жизни, как бы вещают нам пророческим образом о нашей собственной весне, которая настанет когда-то и для нас, когда и мы, на-манер пернатых, выпорхнем на свободу и улетим далеко, далеко за пределы этих высоких, непроницаемых стен.
У скворца особая манера пения. По этой манере всякий отличит его от какой-нибудь другой птицы. Кроме того, скворец мастер подражать не только пению птиц, но и другим звукам, которые он слышит кругом. Но у нас стояла полная тишина, других птиц почти не залетало, и ему оставалось подражать тем немногим звукам, которые раздавались иногда в пределах крепости. Какие же это были звуки?
Где-то жандармы в это время пилили дрова, а у нас кудахтали куры и пели петухи.
И вот, представьте себе, скворец войдет в азарт, зальется непрерывной песнью и без малейшего отдыха начнет под ряд пускать свои трели, пилить дрова, кудахтать по-куриному, петь по-петушиному, опять по-скворечьи и т. д. без конца.
Смешил он нас таким пением буквально до слез. И трудно сказать, чем он больше доставлял удовольствие: своим собственным пением или передразниванием, забавнее которого мы, кажется, никогда не слыхали в жизни.
Но у нас все недолговечно. Пришла напасть и на скворца. В 1903 году стали менять заборы и сбросили мой шест, когда ломали старые. А при новых заборах опять его не поставили. Побоялись, соображали:
— Мало ли какому пению мы могли научить такого артиста!
148
149
А вдруг при посещении высшего начальства он запоет гимн великой французской революции.
Нет, без скворца спокойнее!
— Пресечь.
Так пресекли это зло в самом зародыше.
XXX. Аквариум.
Из всех животных доставляли нашему начальству в тюрьме меньше всего беспокойства — рыбы. Они так же были молчаливы и безгласны, как тиха и безгласна должна быть самая наша тюрьма.
А потому я не встретил ни малейшего возражения, когда попросил смотрителя, нельзя ли мне купить пару золотых рыбок. Они стоили тогда всего, кажется, 30 копеек.
Но если так легко было получить согласие на доставку рыбок, то очень трудно было сделать при наших средствах аквариум. И мне тогда нигде не удалось прочитать, как его делать и какие материалы нужны для этого дела.
Главным материалом, которым мы располагали вполне, было дерево, и я начал с него.
Взял квадратную доску в полметра величиной, по углам поставил четыре квадратных столбика, врезал в них и поставил на ребро четыре дощечки, а их в то же время врезал ребром и в самое дно. Получился низкий ящик с высокими столбиками по углам. В верхних ребрах досок этого ящика и в самых столбиках я сделал прорезы для стекол.
Сначала я сбил и склеил деревянную часть моего ящика и хорошо прокрасил его суриком на олифе (масло). Все углы у дна, сверх того, замазал масляной замазкой и дал хорошенько просохнуть. Эту сушку, вместе с повторной прокраской, я продолжал несколько месяцев.
149
150
В то же время в прорезы я вставил стекла и также вмазал их суриком.
Хорошо просушив, я налил воды и стал наблюдать, нет ли где течи. Ждал день, другой, неделю, две — нигде не каплет. Несколько раз я сливал воду и наполнял аквариум свежей, чтобы промыть запах масляной краски.
Аквариум я установил на столе той же камеры, в которой я выводил цыплят.
Я забыл сказать, что в середине аквариума я пропустил сквозь дно и вмазал две рядом стоявшие тонкие жестяные трубочки, одну повыше другой. Водопроводный кран над раковиной должен был питать аквариум свежей водой. Трубочка, в которую нагнеталась вода, заканчивалась маленьким ситком, и вода из него била пылеобразным фонтаном. В другую трубочку вытекал в раковину избыток постоянно накоплявшейся воды.
Когда вся моя выдумка приближалась к концу, я сказал смотрителю, что жду обещанных рыбок. Недели через две я получил их, и они очень обрадовались тому водному простору, в который они попали.
А вода, падавшая в аквариум мелким дождиком, вводила для рыбок много свежего воздуха. Хорошего корму для них у меня не было, и я бросал им мелких мушек и маленьких дождевых червей. Иногда же они брали и кусочки мяса.
Так продолжалась эта идиллия с полгода.
Но, вот, в одно ясное утро я с тревогой заметил, что снаружи аквариума как будто краска в углу вздулась пузырем. К вечеру этот пузырь увеличился. А утром он лопнул, и на его месте появилась капелька воды.
— Заплакал мой аквариум! — подумал я- — Что делать?
За одной слезинкой появилась вторая, третья… и, наконец, открылась медленная, но непрерывная капель.
150
151
— Плохо дело, — решил я. — Чинить его или не чинить? Ведь, если началось в одном месте, то как можно ручаться, что через неделю не начнется и в другом ? И если мой аквариум так непрочен, то, по-видимому, не стоит и чинить его! Значит, лучше устроить рыбок как-нибудь иначе.
В огороде был железный крашеный бак небольшого размера, в который мы набирали воду из крана для поливки лейкой. Наступала осень, и в огороде бак не был нужен. Я вымыл его хорошенько, принес в камеру и поставил на стол, на то же самое место, где стоял аквариум.
Для подачи и стока воды я сделал два небольших круглых отверстия рядом в боку бака на пять сантиметров от его верха. В оба отверстия я вставил две трубки. Одна, короткая, прямо от края бака уходила на край раковины. В нее стекала вода. Другая доходила до середины бака и здесь была изогнута под прямым углом прямо книзу. Вода в эту трубку не била фонтаном вверх, а, наоборот, била вниз и оттуда булькала вверх. Посредине она здесь «кипела», как в ключе.
Рыбки и здесь чувствовали себя превосходно. Они резвились друг с другом, ныряли вниз, всплывали наверх, выбрасывали вверх изо рта струйку воды. Или же, высунув из воды мордочку, булькали пузырьками воздуха. Меня они ничуть не боялись и брали иногда мух прямо из рук.
Когда надо было, раз в месяц, чистить весь бак, я ловил рыбок, одну за другой, маленьким сачком, который для этого сделал из марли, и пересаживал их в банку с водой. А оттуда выливал вместе с водой опять в наполненный бак.
Маленькие бестолковые созданья! А все-таки я забавлялся и возился с ними немало! И в глухой одиночной камере даже эти два молчаливых существа
151
152
доставляли немало развлечения. В нашем унылом царстве, где все замерло в своей неподвижности, приятно было смотреть на эти молчаливые, но подвижные создания. Они весело играли. А во время своих прихотливых движений отливали то серебром, то золотом. Особенно по утрам, когда луч солнца заглядывал в бак и придавал окраске рыбок яркие, красиво меняющиеся отливы.
Прошло более года моего сожительства с ними. Я стал замечать, что одна рыбка делается вялой, сонной, мало плавает и почти неподвижно стоит на одном месте. Присмотревшись, я увидал, что и внешность у нее изменилась. Она как будто обросла чем-то в роде паутины, и плавники у ней точно опутаны этой паутиной. А потом она повернулась вверх брюшком, как часто делают рыбы перед смертью, и на другой день умерла на самом деле.
Несколько недель спустя умерла и другая рыбка.
Так я и не узнал никогда, какая болезнь постигла их. Только несколько дней я ходил более грустный, чем всегда. А когда приходил к себе в камеру, даже не глядя в опустелый бак, я чувствовал, что мне чего-то не достает. Как будто я что-то потерял и не могу найти.
А потерял я, всего-на-всего, только незаметных и беззвучных, но все-таки сожителей.
XXXI. Как я размножал букашек.
В этой главе продолжается рассказ о том, как мы создавали животных. Но эти животные очень мелкие и зовут их особым именем, — насекомые. Для разведения их у меня были особые побуждения. Вот почему я их выделил.
Мне пошел уже сорок первый год, когда я впервые принялся за изучение энтомологии и принялся,
152
153
как школьник, собирать насекомых. Курс энтомологии был университетский, обширный, а мир насекомых нашего необитаемого острова был так мал, что в большом курсе его было трудно найти.
Правда, когда мы внесли в свой уголок живую зеленую природу, насекомые стали посещать нас все чаще и чаще. А для изучения нужно было ловить и собирать их.
Собирать, но где?
Обыкновенно дети, вооружившись сачком, бегают по садам, лугам и полям и собирают их там.
А куда же я могу пойти? Я сижу почти неподвижно в огороде или во дворике. И весь мой сад, луг и поле умещаются на ста квадратных аршинах. Все видно, как на ладони, и ловить здесь некого.
Так казалось мне, когда я впервые начал свои поиски. Я забыл русскую пословицу:
— На ловца и зверь бежит:
И как только я занялся этим, я увидел, что кругом меня имеется множество всяких букашек, — гораздо больше, чем казалось мне раньше. Особенно же много встречалось насекомых мелких и невзрачных, т. е. таких, на которых обычно мы не обращаем внимания.
Я увидал, что за насекомыми нет надобности гоняться с сачком. Летают хорошо только немногие из них. Да и те часто сидят в неподвижной, «задумчивой» позе. И тогда их легко взять прямо рукой, если тихо подойти к ним. Большинство же летают очень плохо, или совсем не летают.
И, наконец, большая часть насекомых проводит две трети своей жизни в виде личинок или куколок, а эти уж совершенно не могут летать. Но если найти одновременно три одинаковых гусеницы, то можно получить одно и то же насекомое сразу во всех трех формах его развития:
гусеница, куколка и полная форма.
153
154
Все эти наблюдения и размышления побудили меня устроить «воспитательный дом для шестиногих».
Это был небольшой деревянный ящик, имевший вид двухэтажного дома. Окна у него были стеклянные, но в одно стекло. Это стекло поднималось и служило дверью или входом в маленькую комнатку, шириной в это стекло. Сквозь стекло видно было все, что делается в каждой комнатке.
Все комнаты были пронумерованы. Я стал их наполнять и записывать, что и когда положил в ту, либо другую комнату. Во многих лежали гусеницы и личинки, снятые с тем листом, на котором они сидели и грызли его. Для них надо было подкладывать ежедневно, а то и дважды в день, свежую зелень. И так до тех пор, пока они станут искать место, где бы окуклиться. Конечно, комнаты надо было тщательно очищать.
В других комнатах лежали куколки в ожидании, когда из них родится новое существо. Если куколок было две или больше, одну я умерщвлял, чтобы сохранить на запас куколку рядом с тем насекомым, которое выйдет из нее. Для окукливания гусеницы я либо вносил в комнатку землю, либо устанавливал стоймя стебельки и палочки, чтобы гусеница в момент превращения могла за что-нибудь зацепиться.
Такой домик был устроен, и работа начата была в тех видах, чтобы собрать побольше материала для энтомологических коллекций. Для этих коллекций предварительно были устроены специальные ящики, которые плотно закрывались, чтобы внутрь не проникла моль и другие вредители. У этих ящиков устраивалось дно специально из какого-нибудь рыхлого материала, в который можно бы было втыкать булавки.
Не мало изобретательности проявил я, чтобы устроить такое дно наилучшим образом, а также для
154
155
того, чтобы заменить чем-нибудь энтомологические булавки, которых у нас не было. Эти булавки я делал из тонкой латунной проволоки, у которой верхушку, вместо головки, сгибал маленьким колечком.
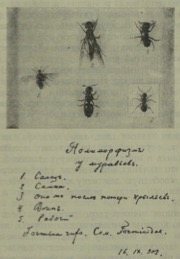
Устроены были сразу шесть ящиков, по числу отрядов насекомых. И каждое насекомое, как найденное, так и воспитанное мною, поступало прямо в коробку, назначенную для его отряда.
Мой воспитательный домик, конечно, был мал для моих занятий. Да и не всех насекомых можно было
155
156
выводить в нем. Я пользовался всяким благоприятным случаем, который дарила природа, чтобы заполучить новых насекомых, которых у меня еще не было.
Когда погиб мой первый недоразвитый цыпленок на третий день после рождения, я положил его труп за окно между рамами. Туда через форточку залетало много мух. Уже на другой день, осматривая его, я увидел, что в глазницу полуоткрытого глаза мясная муха успела положить свои яички. Другая положила их в полуоткрытый рот.
Знают, хитрецы, где будет мясо понежнее!
Через день из яиц вышли личинки мясных мух и углубились внутрь головы цыпленка. Конечно, прежде всего, они целиком выели мозг этого маленького существа, а затем пробрались и к другим мясистым местам.
Прошло недели две, как, заглянув на своего цыпленка, я увидал, что из него вышла одна взрослая личинка и ищет чего-то вокруг цыпленка. Я догадался, что личинка ищет земли, где бы окуклиться. Я взял свободную жестянку от консервов, насыпал туда немного песку, положил личинку и закрыл крышкой.
В темноте личинка скоро окуклилась. Всех других личинок, которые выползали из цыпленка, я складывал туда же в жестянку и, таким образом, получил больше дюжины коконов и имел удовольствие несколько раз наблюдать, как из куколки появляется муха.
Жалкая, слабая, со сморщенными, измятыми и влажными крыльями!
Мух комнатных я получал целыми сотнями из навозных куч, а навоз у нас складывался на дворе для получения перегноя. Раскопав такую кучу, можно было найти в ней одновременно и личинки и коконы.
Однажды, в начале лета, я увидал на листьях си-
156
157
рени огромную по нашим местам зеленую гусеницу с рогом на конце тела и двумя косыми белыми полосками. Я загляделся на эту красавицу. Понятно, она тотчас же попала ко мне в особую комнату моего домика. Но все время оставалась вялой, почти без движения. И я уже стал беспокоиться, не потрепала ли ее какая-нибудь птица, обронив на куст сирени.
Но через день я догадался поместить ее иначе. Насыпал в жестянку песку, положил туда свежую веточку сирени и закрыл крышкой. На другой день моя гусеница превосходно окуклилась, — она к этому и готовилась.
А через две недели я нашел в коробке прекрасную, крупную бабочку со смятыми крыльями. Целые сутки или двое понадобились ей на то, чтобы вполне оправиться. И тогда она оказалась одной из красивейших бабочек, каких я когда-либо встречал в нашей северной области.
В библиотеке у нас был атлас бабочек, и в нем я скоро нашел и узнал, что моя воспитанница называется «сиреневый бражник».
Хотя моих трудов здесь было немного, но я гордился тем, что произвел на свет самое очаровательное создание, которым по праву может гордиться всякий начинающий энтомолог.
Эти мои увлечения продолжались три последних года нашего пребывания на острове. Я наполнил почти вплотную все шесть ящиков насекомыми. И не собрал больше только потому, что поздно взялся за это дело.
И тут на собственном опыте я узнал с очевидностью, что даже на таком маленьком островке, как наш, окруженном со всех сторон широкой полосой воды и высокими столетними стенами, в крохотном уголке тюремного двора, как только оживишь его растения-
157
158
ми, может появиться сам собою большой мир насекомых. Эти насекомые были не одни и те же, а постоянно менялись. Очень часто залетали и новые. И все вообще виды были очень разнообразны.
Кажется невероятным, что их было так много в таком маленьком уголке! Но попробуйте подойти к этому миру поближе. Попробуйте наблюдать и собирать насекомых на таком тесном участке, как у нас, не сходя с места. И вы сами удивитесь тому, что найдете!
158
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
XXXII. Как нам удалось устроить химическую лабораторию.
Лабораторию мы устроили в самый разгар нашей научно-учебной деятельности, немножко раньше, чем расцвели наши ремесленные и сельскохозяйственные увлечения. Впрочем, одно другому не мешало. Одни увлекались одним, другие — другим. Да и часы для занятий были разные.
Заняться химией, после тех многообразных занятий, которые мы изобретали для себя, было нетрудно. Новая наука или новый шаг в науке, и только! А мы всегда стремились к новому.
Но создать лабораторию! Это гораздо хитрее, чем устроить переплетную или сапожную мастерскую.
Конечно, наша лаборатория была такая маленькая и бесхитростная, что не всякий решился бы назвать ее этим именем. И все-таки в ней можно было каждому начинающему пройти от начала до конца курс химии, в размере программы среднего учебного заведения.
В это время я понимал в химии столько же, сколько и в китайской грамоте. Но по делу, в котором обвиняли меня и которое предшествовало моему заключению на необитаемый остров, я держал у себя
159
160
учебник химии Менделеева. Теперь, вместе с другими моими вещами, он был привезен сюда и, наконец, попал к нам в библиотеку. Значит, у нас был хороший учитель.
Из товарищей же, которые занимались на свободе в лаборатории у живого Менделеева, был один только Лука. Он один только и мог фактически выписать все, что нужно было для лаборатории.
Он сговорился с Морозовым, который хотел первый заниматься с ним по химии. Для начала они сложили свои доли из той суммы, которая отпускалась по кварталам года на поддержание мастерских, и купили: пробирки, колбы, две реторты, пипетку, стеклянных и резиновых трубок, фарфоровую чашку, фарфоровый тигель для накаливания, щипцы и кое-что другое.
Реактивы с большой охотой выдал доктор Безроднов из аптеки, и купить пришлось только те из более необходимых, которых у доктора не было.
Потом, для пополнения списка реактивов, приходилось к нему обращаться нередко. И одиночные экземпляры он выписывал для нас прямо за счет своей аптеки. Дополнительно также и мы сами не раз выписывали разные лабораторные принадлежности, которые на первый раз упустили из виду. Все это шло под личным контролем доктора.
Самая нужная лабораторная принадлежность — спиртовая лампочка — не была разрешена. Ее мы, конечно, могли бы заменить простой баночкой. Но без спирту никакая банка действовать не будет. А спирт был совершенно запрещен.
Мы не особенно горевали при таком запрещении, потому что приспособили для нагрева большую казенную керосиновую лампу.
Она была с горелкой «луна», и таких ламп было много. Еще недавно они служили для освещения ка-
160
161
мер, а теперь оставались не у дел, так как только-что было установлено электрическое освещение.
Чтобы не лопались стекла, мы поставили вместо стекла железную трубу, высотой со стекло. Раз установленный размер пламени без копоти оставался постоянным, и его не надо было регулировать.
Верхушка трубы была надрезана на один дюйм на шесть или восемь частей, и эти части отогнуты под острым углом. Получался звездообразный раструб, который служил тем же, чем и камфорка на самоваре. На него мы ставили всякую посуду с реактивами, которые надо было нагревать. И жар от этой лампы был настолько велик, что кружку воды можно было вскипятить в десять минут.
Сюда же мы ставили колбу для нагревания, реторту для перегона и здесь же держали пробирки, в которых жидкость вскипала не хуже, чем в спиртовом пламени.
Для прокаливания в тигельке мы употребляли стеариновую свечку и паяльную трубку, которая легко накаливала фарфор докрасна.
Наша лаборатория помещалась в обыкновенной нежилой камере. Ее тюремный вид не имел в себе ничего лабораторного. И он ничего не говорил об открытиях той науки (химии), которую нельзя изучать без лаборатории и которая вводит нас в тайны строения вещества.
Вся наша химическая арматура вмещалась в небольшом самодельном шкапике. А при входе в камеру видна была только керосиновая лампа на столе, с трубой вместо стекла, да этот самый шкапик.
Но я не без волнения вошел в эту скромную лабораторию для того, чтобы впервые на тридцать пятом году своей жизни познакомиться с приборами и веществами, с которыми теперь везде знакомят всякого школьника.
161
162
К этой науке, которая до сих пор была мне совершенно чужда, я издавна питал какое-то особое уважение. И те «превращения» одного вещества в другое, какие я увидел в лаборатории, на первых порах казались мне прямо чудесами. Мало того, они обещали мне еще новые и новые откровения после того, как я овладею основами химии.
С этими основами я начал знакомиться под руководством Морозова. И, знакомясь впервые с той или другой реакцией, я невольно делал житейские выводы, что если такую-то реакцию применить в том или ином случае, то получится либо новая полезная соль, либо краска, либо металл и т. д., и т. д.
Очевидно, мой ум от природы имел практическую складку, а не имел склонности к выводам теоретической науки.
Одно из таких практических приложений мне и пришлось вскоре же применить в нашей жизни, полной всяких запрещений. Нам разрешили переписку с родными. Родные, несмотря на инструкцию, конечно, нередко писали такие вещи, которые цензура не хотела пропустить и вымарывала чернилами иногда по нескольку строк. Я решил испробовать свои химические познания и раз, другой смыл химическим путем помарки и привел в ясность вымаранный текст.
После этой удачи я стал общим реставратором подлинного текста и проделал свои опыты над несколькими письмами разных товарищей. Правда, успех был не всегда одинаковый.
Но всезнающее и всевидящее начальство проведало про мою практическую химию и про такое торжество науки над их ухищрениями, после чего мы стали получать строки, которые были замазаны уже не чернилами, а асфальтовым лаком. Над ним уж моя химия была совершенно бессильна!
Мы с Морозовым занимались то каждый день, то
162
163
через день. По вечерам я знакомился с химией теоретически. После него я продолжал сам, хотя уже и реже, посещать лабораторию в одиночку.
Впоследствии кто-нибудь из нас троих заходил в нее только при встретившейся надобности. Особенно часто это случалось при изучении минералогии. Тогда мы получали из Музея целые коллекции минералов и учились определять их по определителю. При этом было необходимо производить химический анализ минерала. Химию же как чистую науку применял только один Морозов, писавший свою книгу.
XXXIII. Библиотека и журнал.
В первые годы своей жизни в заключении мы не думали ни о какой библиотеке. Книг нам никаких не давали и предоставляли с утра до вечера заниматься полным бездельем. Нам не давали даже тех книг, которые многие привезли с собой.
Прошло лет пять. Книги стали накопляться. И чем дальше, тем больше. При каждом посещении высших властей мы заявляли о том, что нам нужны книги, иногда писали их названия и кое-что получали. Поступили в библиотеку и наши собственные книги, если они были привезены с вещами. А через десять лет стали выдавать даже специальную сумму в книжный фонд, из расчета по десяти рублей на человека,
Каждый из нас мог ежегодно выписывать книги в пределах этой суммы. И ежегодно раза два мы составляли список книг, какие нам желательны, и посылали властям к исполнению. Научные интересы были у нас чрезвычайно разнообразны, и список получался весьма разносторонний. Власти, конечно, вносили свои поправки и вычеркивали все то, что им было нежелательно.
163
164
Наши желания и их желания обыкновенно не совпадали. Область социальных наук пользовалась особым вниманием наших властей, и большая часть их запрещений обрушивалась именно в эту сторону. Запрещались книги исключительно за то, что в своем заглавии содержали термин «социальный». Никакому, напр., даже департаментскому невежде не пришло бы в голову запрещать нам Историю древнего Рима. Но когда вышла в свет социальная история древнего Рима и мы выписали ее, — нам запретили ее получить.
Это дало повод Г. А. Лопатину предложить нам изгнать из наших списков раз навсегда термин «социальный», а писать вместо него «салициловый».
В 1889 г. П. Н. Дурново, бывший у нас с визитом, усмотрел у кого-то в камере «Историю французской революции» Кинэ и полюбопытствовал заглянуть в наш каталог. Там было десятка два названий, которые ему очень не понравились. Это были книги, привезенные с собой в тюрьму некоторыми из товарищей. Дурново приказал их изъять.
Так как книги тогда были единственным содержанием нашей жизни, то все мы были буквально потрясены этим бессмысленным распоряжением. Это распоряжение казалось нам началом возврата к старому, когда кроме «духовно-нравственных» книг не давали никаких и когда люди готовы были итти на всякую крайность, вплоть до самоубийства, лишь бы избавить себя от прозябания без книг, ведущего к идиотству, либо к сумасшествию.
«Нет, лучше смерть, чем это», — думалось теперь каждому.
Положение казалось настолько серьезным и внушающим опасения, настроение наше было так тревожно и безнадежно, что решено было выразить протест единственным доступным тюрьме способом — голодовкой.
164
165
Как часто бывает, непосредственных результатов голодовка не принесла никаких. Разве только расшатала еще больше наше здоровье. Но бесследно она не прошла. Она сыграла свою роль. Возвратов к старому в книжном деле не было, и никогда больше не повторялось в нашей жизни вторжение в библиотеку с целью производить в ней сокращения.
Отобранные книги мы получили полностью года через три из канцелярии, где все это время они лежали без всякого употребления.
Помимо своих книг, мы получали много разной литературы от наших жандармов, особенно литературы для «легкого чтения». Когда мы научились переплетать, они просили переплести и их книги. Своих у нас было мало, а «учеников» на этой работе было много. Все хотели учиться переплетать. И мы охотно брали чужие книги, но с тем условием, что мы пустим их между собой в чтение. Они охотно соглашались, и, таким образом, мы получили книги для чтения, не увеличивая своей библиотеки.
Из этих случайно попадающих книг некоторые оставались и окончательно в нашем распоряжении. Один хозяин прочел уже свои книги и не считал нужным удерживать их у себя. А другой бросал службу, уезжал и готов был освободиться от книг, как от лишнего груза. Тогда их книги поступали в нашу библиотеку.
Так, наконец, наступил момент, когда книги, хранившиеся у вахтера на столе в пустой камере, не могли больше умещаться на нем. Понадобились полки, чтобы разместить их как следует.
Столяры были свои. И мы с удовольствием сделали и установили в библиотечной камере первый ряд полок, правда, не лакированных, но крашеных под орех. А затем, год за год, постепенно, поставили еще два ряда полок вдвое выше, до самого потолка. Лет
165
166
через шесть эти полки все были уже заполнены книгами, и места опять нехватало.
Пришлось занять под библиотеку соседнюю пустую камеру. К этому времени мы постепенно взяли заведывание нашими хозяйственными нуждами в свои руки. Попала к нам и вся наша библиотека. Тогда выбрали из своей среды библиотекаря, сроком на полгода. Первые два библиотекаря сразу же расположили книги по научным отделам и составили рукописный систематический каталог, который потом ежегодно пополнялся.
Вторую камеру мы не успели всю наполнить книгами. К вам пришла драгоценная свобода и раскрыла наши двери. И мы покинули свою библиотеку, в которой накопили больше трех тысяч томов.
И, покидая мрачные стены, мы больше всего жалели именно эту сокровищницу знаний. Жалко было нам расстаться с ней. Составлена она была, почти вся, по нашему вкусу, по нашим замыслам. Почти каждая книга была колыбелью, в которой рождались, развивались и крепли новые знания, новые думы, новые переживания или художественные волнения. По этим книгам мы могли бы проследить свой духовный рост и постепенное восхождение на вершину знаний. Эти книги для нас были дороже всех изделий, всех наших ботанических насаждений.
Нам казалось, что эти книги были некоторым отпечатком нашей личности, что они были вещественным воплощением всех наших переживаний за эти долгие годы двадцатилетнего заключения. Эти книги были для всех единственным светлым лучом в нашем темном царстве ужаса и постоянно витавшей смерти.
Увы, после нашего отъезда все наши книги были расхищены.
Прежде, чем к нам допустили печатную журналистику, мы создали журналы свои, рукописные. Они
166
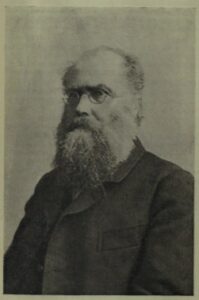
ЛОПАТИН, ГЕРМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
В первый раз был сослан административно в Восточную Сибирь еще в конце 60-х годов XIX века, но бежал оттуда и вместе с Лавровым уехал за границу в 1873 году. В 1881 году он возвратился нелегально в Россию, был арестован и сослан в Ташкент, а потом переведен в Вологду, откуда нелегально уехал 22 февраля 1883 года, участвовал в совещаниях по подготовлению убийства начальника политического сыска Судейкина, арестован 7 октября 1884 года, приговорен к смерти и пожизненно заточен в Шлиссельбургской крепости. Там он почти все время проводил за чтением. После освобождения в 1905 году жил в разных городах и умер в 1918 году в Петрограде.
Николай Морозов.
169
состояли из рукописей разных авторов, которые сшивались вместе, переплетались, украшались заглавной виньеткой и носили не всегда привычное для литературы название. Так, первый выпуск нашего журнала получил название «Винегрет», в ознаменование того смешанного содержания, которым он был наполнен. Другой носил название «Паутинка». И трудно сказать почему. Может быть, намек был на то, что сеть этих размышлений будет убийственна для всякого, кто не будет обладать достаточной силой знания.
В наших журналах была беллетристика, статьи научного содержания, стихотворения, рисунки, чертежи, карикатуры, ребусы… Одним словом все, как полагается. Главный наш художник Лука был одинаково щедр как на строго научные рассуждения, так и на шуточные изображения.
Карикатуры были, разумеется, на злобу дня. И если бы теперь уцелели эги карикатуры, мы не сразу бы догадались и вспомнили, что они означают.
Склонность к стихотворству, благодаря одиночному заключению, получили почти все. И этих стихов появлялось так много, что наши журналы не могли вмещать их. Стихи сообщались чаще всего по стуку и передавались как летучки. Особенно эпиграммы. Это была словесная карикатура и также на злобу дня.
Для образчика приведу одну (Г. А. Лопатина).
В клубе страшный кавардак.
Всюду слышишь: лак да лак,
И сам чорт едва ли скажет,
Кто кого тем лаком мажет!?
Это значит, что соседи автора обсуждали стуком через стенку, сколько кому и какого лаку нужно выписать для столярной.
169
XXXIV. Устроили даже естественно-научный музей.
Нигде музей не начинался так оригинально, как у нас.
В основание нашего музея лег микроскоп. Настоящий микроскоп, хотя и старого устройства. Нам удалось купить его по случаю и недорого. Всего за 25 рублей. Деньги на его покупку мы получили за работу той, казенной ограды, о которой упоминалось выше и которую, кстати сказать, мы сделали очень хорошо. Нас было несколько человек, которые выразили желание заниматься микроскопией. И для того, чтобы удобнее было, мы заняли свободную камеру, над дверью которой жандармы прибили красивую доску с надписью: «Микроскопическая». Это название они придумали сами и ни у кого не спросили даже, что именно оно означает.
В этой «микроскопической» камере было совсем пусто. Мы принесли деревянный щит, надвинули его на железный стол, поставили табурет. На стол положили ящик с микроскопом и бритвой и коробку с красками для препаратов.
Вот каково было оборудование нашего кабинета для научных занятий.
Многие из нас, и я в том числе, не только никогда не занимались с микроскопом, но даже и не заглядывали в него ни разу. Зато здесь, в тиши уединения, мы могли с головой уйти в новый, открывшийся перед нами, незримый мир.
Этот мир не могли отнять у нас никакие жандармы. Этот мир не боялся тесноты. Десятка два растений могли раскрыть перед нами тайны устройства растительного мира. Десяток насекомых открывал обширное поле для наблюдений за ними. И в одной банке с грязной водой мы развели несметное множество микроскопических животных.
170
171
В тяжелую минуту жизни, когда становилось невыносимо тоскливо от пустоты, тесноты и однообразия всего окружающего, мы уходили в пустую камеру, усаживались за свой микроскоп и погружались в иной мир, незримый и мало кому ведомый.
В этом мире было столько разнообразия, красок, движения и жизни, что можно было без устали часами наблюдать его. Можно было погрузиться в него совсем, буквально с головой, и забыть решительно все.
Бывало, очнешься от этих картин, как после увлекательной сказки или фантастической повести, и долго не можешь притти в себя и понять, где я и что со мной?
Вскоре я построил большой лакированный шкап со стеклянными дверцами, чтобы складывать в него микроскоп и все, что при нем, а также самые разнообразные предметы, которые служили нашим учебным занятиям.
Незаметно шкап наполнился почти весь, а для громоздких предметов он оказался тесен. У нас уже накопилась большая корзина камней. Было четыреста видов присланных растений. И, наконец, стали появляться различные чучела, которые делал тот же Лука.
Чучела появились несколько неожиданно для нас.
Однажды жандармы, которые были хорошими охотниками, а водяной птицы кругом было много,, обратились к Луке с просьбой:
— Не можете ли вы сделать чучело из такой-то только-что убитой птицы?
— Отчего же, могу, — ответил им Лука.
Он взялся, набил превосходно, а затем поставил охотникам условие:
— Давайте сразу двух птиц. Одну я буду набивать вам, а другую для нашего музея.
171
172
Эхо условие они нашли подходящим. И с этих пор Лука несколько лет под ряд наполнял наш музей различными чучелами.
Чтобы привести в порядок все препараты нашего музея, мы установили во всю длину двух свободных стен капитальные полки, от самого пола до потолка. Так, увлекаясь, мы работали из года в год и наполнили сплошь всю камеру учебными предметами. Посредине передней полки, на самом виду, лежал череп человека, шведа или русского, трудно сказать. Его мы нашли в земле во время своих раскопок. Нашли мы также в земле и две-три отдельных конечности человека.

Наконец, чтобы пополнить наш анатомический отдел, мы купили, при содействии доктора, новенький полный скелет человека и поставили его как-раз у самого входа.
Входя в эту камеру, всякий видел сразу, что он
172
173
попал в музей, хотя и небольшой, но разнообразный и хорошо обставленный.
Жандармы не забывали показать наш музей каждому высокому посетителю и очень гордились им и нашими успехами. А этих посетителей у нас было немало, начиная от министра и ниже.
Один раз в нашем музее случилась даже такая история.
Мы ждали министра Горемыкина. Это было, кажется, в 1895 году.
Какой-то шутник из товарищей, накануне, а может быть и в самый день приезда его, забежал в музей, сложил вчетверо белый лист бумаги и вложил его в руку скелета. А самую руку откинул вперед. Она вытягивалась и отчасти загораживала вход.
Когда министр обходил камеры по порядку, вахмистр с привычной ловкостью повернул ключ и быстро откинул дверь камеры музея. Министр выдвинулся из-за его спины, желая войти, но тотчас же отшатнулся. Он увидел «смерть», которая стояла у самого входа в камеру и подавала ему прошение.
Не знаю, был ли он суеверным. Но он, несомненно, знал, что смерть изображают в виде скелета, и совсем не подозревал, что здесь он увидит настоящий скелет, а не привидение.
А ведь смерть здесь, действительно, витала непрерывно и стояла у каждого из нас за плечами.
И кто знает? Какая мысль вспыхнула в его голове? Несомненно, он испугался и, может быть, подумал, что мы, носители революции, которых он здесь держал взаперти, можем накликать смерть и на него самого.
После этого он прожил еще двадцать два года. Но погиб он все-таки от революции, той революции, против которой он боролся всю свою жизнь. Это было в 1917 году.
173
174
Над входом в наш музей, который так хорошо охранялся скелетом, до конца наших дней продолжала красоваться заманчивая надпись: «Микроскопическая».
Музей в тюремной камере, скрываясь под этим названием, так и не получил своего официального признания. Очевидно, жандармы чувствовали, что в застенке на необитаемом острове не место таким культурным учреждениям.
XXXV. Как мы развлекались.
Наши развлечения были так же разнообразны, как и наши занятия. И так же, как занятия, они вначале совершенно запрещались.
В первый же раз, как только меня выпустили на прогулку, я нашел во дворике кучу желтого песку и деревянную лопату. От безделья я пересыпал его с места на место раз, другой и третий. А затем рассыпал песок ровным слоем и стал чертить разные геометрические фигуры и чертежи. Перед концом прогулки во дворик зашел смотритель, взял лопату и, смазывая все мои фигуры, сказал:
— Здесь всю эту премудрость надо бросить!
Но времена меняются. Менялось многое и у нас.
ЗИМНИЕ ПОСТРОЙКИ
Однажды зимой я вышел в огород, где намело целые сугробы снега. И от нечего делать, взяв лопату, я стал устраивать хижины полярных жителей, конечно, маленькие. Внутри я постарался обставить самой фантастической мебелью, а снаружи мне хотелось придать постройкам соответствующий «стиль». Так я работал во время прогулки много дней. И мои постройки жандармы уже не уничтожали.
174
175
В другой раз я задумал постройку в готическом стиле.
Но снег не годился для изготовления тонких фигур. Тогда я решился нанести жандармам некоторый убыток и попросил вахтера выдать мне лейку. Предварительно я сделал как бы фундамент моей постройки. Но только из веревок и в воздухе.
На высоте двух метров я натягиваю поперек узкого огорода две веревки на расстоянии полутора метров друг от друга, посредине накладываю поперек еще две веревки, чтобы получился таким образом веревочный квадрат. Затем оттуда, где веревки пересекаются, я спускаю вниз до земли тоненькие веревочки и такие же, но гораздо короче, спускаю вниз в промежутке между ними.
Когда все это было сделано, я беру лейку, наполняю ее водой в ванной комнате, становлюсь на скамейку и начинаю поливать веревки тонкой струйкой воды.
Мороз был хороший, больше 12°, и струйки воды, стекая вниз по веревкам, мерзли почти у меня на глазах.
Жандарм смотрит на меня в недоумении, но по обычаю ничего не говорит.
Так я выливаю одну за другой лейки воды, пока не кончилась прогулка. Каждый раз меня сопровождает жандарм, пока я хожу за водой.
В первый же день у меня образовались четыре тонких столба по углам квадрата, которые подперли мои висячие веревки. А в промежутке между ними появились зародыши сталактиков. Таким образом, я заложил основание своего хрустального дворца.
Я продолжал неутомимо свою работу каждый день, если только мороз был не ниже ю°. И каждый день моя сталактитовая постройка принимала все новые и все более причудливые формы.
175
176
Через неделю угловые колонны уже сильно выросли и стали почти в руку толщиной, а промежуточные я делал одни больше, а другие меньше, смотря по вкусу. На вторую неделю под сталактитами на земле я получил и соответственные сталагмиты. И мое стрельчатое сооружение стало одновременно возрастать и сверху и снизу.
Промежутки между колоннами стали почти сплошь обрастать сталактитами, так как я лил воду непрерывно по длине веревки. И вместо линии отдельных сталактитов я стал получать сплошную сталактитовую стену.
Труда и времени я не жалел, а терпения у меня было хоть отбавляй. Мне хотелось построить настоящий сталактитовый грот, только четырехугольной формы.
К сожалению, довести работу до конца мне не удалось. Наша зима всегда отличается непостоянством. Подул южный ветер, термометр показал выше нуля, и на другой день, выйдя на работу, я нашел только одни руины моей бывшей постройки.
После этого я уже не возобновлял своей работы.
Другие, но уже летние, развлечения связаны были тоже с расходом воды.
Мы с Лукой задумали устроить фонтан.
ФОНТАН
В это время я учился паять жесть при помощи паяльной трубки. Мы спаяли всю систему жестяных трубок для будущего фонтана. Соединяться они должны были резиновыми трубочками. В огороде мы протянули линию трубок от водопроводного крана сначала по земле у самого забора. А затем «труба» должна была углубиться в землю и выйти вертикальным стержнем как раз посредине огорода, где у нас была круглая клумба и где были посажены разные цветы.
Вертикальный конец трубки немного поднимался
176
177
над клумбой и заканчивался широким конусовидным бассейном из жести. В центре его из мелкого ситка должна была бить вода.
Другой конец линии мы соответственно соединили с краном. И мы сами ахнули от изумления, когда посреди огорода у нас забил настоящий фонтан!
Сноп воды поднимался почти на два метра кверху и красивым веером разбрасывался во все стороны. Освещаемый солнцем, он причудливо играл всеми цветами радуги и придавал нашей клумбе чисто сказочную красоту.
Эффект был так поразителен и так неожидан, что дежурный жандарм тотчас же доложил по начальству. И нашему фонтану и нам сделали честь своим посещением сначала смотритель, а потом и комендант. Все они любовались, восторгались, но хвалить нас не решились, чтобы не подорвать своего авторитета.
Приходили, конечно, и товарищи, по одному. И все единогласно говорили, что мы побили рекорд своей выдумкой. Мы с Лукой ликовали!
БЕСЕДКИ
Наш фонтан появился из того же стремления к уюту, к красоте, ко всему изящному, из которого появлялись и многие художественные вещицы в наших мастерских. То же чувство заставляло нас придавать и местам для наших прогулок уютный вид. Нам хотелось проводить в них время не только приятно, но и полезно. Здесь мы проводили ежедневно по нескольку часов. Здесь, особенно в огороде, мы не только работали, но и отдыхали. А, отдыхая, нам хотелось забыть, где мы. Нам хотелось создать такую живописную беседку, чтобы всегда в ней чувствовался уют.
И мы с увлечением выдумывали и трудились, чтобы создать такие уединенные уголки.
177
178
Сначала мы пренебрегали такой неприятностью, как дождь. Казалось просто: дождь вымочит, а солнце высушит. А потому устроили беседку, густо затканную живыми вьющимися растениями. Растения эти меняли. Один год хмель, другой — вьюнок, третий — ипомея, четвертый — аристолохия и т. д. И каждый год зелень с боков и сверху окружала нашу скамью почти непроницаемой чащей.
Как приятно было уединиться в этом густом зеленом сумраке! И скрыться совсем, хоть на часок, от назойливых глаз жандарма! Ему ведь велено не спускать с меня глаз, а он, конечно, «рад стараться». И знать не хочет, приятно ли это нам. Мы готовы были порой хоть в землю зарыться, чтобы только не видеть его злобных взоров. А здесь, под сенью непроницаемой зеленой чащи, ты один, а жандарма нет. Бывало, сидишь целый час в самозабвении, погруженный в далекие мечты. И когда очнешься, весь окруженный зеленью, то сразу не сообразишь даже, где находишься.
Такие уютные уголки отдыха были устроены у нас в нескольких местах.
Но скоро мы увидали, что хороший дождь легко пробивает самую густую листву.
Приступим-ка лучше к устройству плотных дощатых навесов!
Навес, это — житейская проза. Нельзя ли и сюда внести частицу поэзии?
Конечно, можно! И мы внесли. Так мы украшали навес точеными и даже резными колоннами, как в заправских беседках. Вьющаяся зелень прихотливо свешивалась вроде кружевных занавесок. Иногда такая беседка устраивалась в дачном вкусе, с ажурными решетками, которые яркой белизной (мы красили белилами) резко выступали на зеленом фоне.
Наконец, одну такую беседку я построил посредине огорода в древне-русском стиле на четырех резных
178
179
вьющихся колоннах. Куполообразная крыша покрыта была тонкими дощечками, которые я вытесывал топором из широких поленьев. Вся крыша имела изгибы, которые, в общем, изображали форму луковицы. Все эти затеи и уют, создаваемый ими, несомненно, повышали нашу жизнерадостность и давали нам много развлечений-
ВЫСТАВКА
Коллективное развлечение в огороде у нас было тоже оригинальное. Мы устроили сельскохозяйственную выставку.
Правда, здесь были почти одни только овощи. Необходимости в устройстве выставки тоже не было, потому что все мы стояли на одном уровне огородного развития. Но развлечения нам она дала много.
Местом выставки был выбран средний или третий огород, и вот по каким соображениям. В огородах в это время верхушки заборов на НД аршина были сняты, и на этом месте поставлена деревянная решетка. Поэтому, поднявшись на подмостки, можно было сквозь решотку не только посмотреть из огорода в огород, но и поговорить с соседями. Таким образом, если в третьем огороде будут двое, да в соседних по двое, то на выставке одновременно могут присутствовать шесть человек. А этого было достаточно.
Под каменной стеной во всю ширину огорода мы поставили досчатый стол. Покрыли его белыми простынями вместо скатертей и украсили букетами цветов, которые размещены были в изящных вазах собственной работы. Вазы были выточены из дерева, украшены резьбой, ажурными ручками и даже инкрустацией и выкрашены масляной краской.
На столе живописными группами были разложены и украшены зеленью все сорта овощей, которые у нас выращивались. А их у нас было очень много.
179
180
Мой гербарий огородных растений, который цел и теперь, вмещал пятьдесят различных видов. На выставке же чуть не каждое растение было в нескольких сортах. Были различные сорта реп, разные моркови, свеклы и т. д.
Все это обилие овощей с трудом умещалось на большом самодельном столе. И этот стол если не ломился, то сильно гнулся под тяжестью наших продуктов.
У всех овощей имелся билетик, на котором значилось название, вес, дата посева и фамилия хозяина.
Собранные все вместе, фигурно расположенные и украшенные цветами и зеленью, они, действительно, имели вид настоящей выставки, которой позавидовало бы любое сельскохозяйственное общество.
Такое впечатление от выставки получила и вся наша администрация, вместе с доктором, которые посетили ее в нашем присутствии и очень хвалили наши труды. Большое удовольствие доставила выставка и нам самим, как тем из нас, которые усердно занимались огородным делом, так и тем, которые огородом совсем не занимались, а отдавали свои участки в обработку желающим.
Здесь, как водится всегда на выставках, одни выделялись своими успехами, другие нет.
Хотя на нашей выставке не было ни наград ни дипломов, но первый приз, по общему мнению, взяли Попов и Фроленко, самые усердные наши огородники. Эта пальма первенства так и осталась за ними до конца нашей жизни на острове.
Если бы мы устроили выставку позднее, в последний год нашего пребывания там, то Фроленко удивил бы всех разнообразными сортами яблок, которые он тогда получил впервые со своих яблонь и которые дали ему хороший, несмотря на свою молодость, урожай.
180

ФРОЛЕНКО, МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
Родился в Ставрополе в 1848 году. В 1873 году поступил в Петровскую земледельческую академию, где принял участие в кружке Чайковцев, тайном обществе для подготовки революции. Перейдя на нелегальное положение, он поступил в тюремные надзиратели в киевской тюрьме с целью освободить тамошних политических заключенных, что и сделал после трех месяцев подготовки. Затем он поступил в тайную организацию «Народной Воли» и подготовил несколько покушений на жизнь Александра II. Арестованный 17 марта 1881 года, он был осужден на смерть и заточен пожизненно сначала в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, а потом переведен в Шлиссельбургскую. После освобождения в 1903 году он жил в разных городах на юге, а в настоящее время проживает в Москве.
Николай Морозов.
183
Два таких крупных яблока (апорт) мне удалось вывезти на свободу и показать их на одном частном собрании, где их рассматривали с большим интересом, чем мы сами.
ПЕНИЕ
Одно самое невинное развлечение долгое время находилось у нас под запретом. Это — пение. Но, разрушив старые порядки, нам удалось ввести в свой обиход и пение.
К сожалению, голосистых людей у нас почти не было и с трудом удалось составить «хор» из четырех душ.
К этому времени мы могли свободно «скопляться» у решетчатого забора.
И вот, выйдя на прогулку, нередко можно было слышать, что в нашем уединенном уголку носятся и нарушают былую тишину новые звуки. То вдруг раздается старинная и всех волнующая песня:
Вниз по матушке по Волге…
То понесутся другие напевы:
Не белы снега…
Во чистом поле забелели…
Один только Карпович, прибывший к нам гораздо позднее, обладал прекрасным тенором. Но он предпочитал соло и чаще всего повторял свою любимую песенку:
Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья.
Долго спустя после этого, в 1917 г., он возвращался на родину из Англии, в качестве эмигранта. Пароход, на котором он ехал, наскочил в Немецком море на германскую мину и погиб. Погиб и Карпович. За несколько минут до своей гибели, как рассказывает его
183
184
спутник, он оглашал морской простор этой же своей любимой песенкой:
Последний нонешний денечек…
Судьба поступила с ним жестоко. Он утонул, хотя многие спаслись на лодках.
ШАХМАТЫ
О таком постоянном развлечении как игра в шахматы я уж не буду говорить.
Шахматы выделывались из хлеба, а игра устанавливалась в темную, так как оба партнера были заперты и «ходили» они посредством стука.
Конечно, впоследствии играли и лицом к лицу на прогулке.
184
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
XXXVI. Беспризорные.
Не все в нашей жизни шло так ровно и гладко, среди непрерывных трудов и занятий, как может подумать читатель. Не всегда размышления сменялись совершенно спокойно физическим напряжением в работе. Не всегда мысль работала только над изобретением чего-нибудь нового, или над книгой. У нашей жизни была и внутренняя сторона.
Тяжело жить в одиночестве. Особенно тяжело находиться в одиночестве, когда чувствуешь, что кругом есть много товарищей, но повидать их никого не можешь.
Но все-таки это одиночество переносится легче, пока узник здоров. Бодрые шаги окружающих соседей убеждают в том, что и они здоровы, и радуешься за них.
Но вот сосед слег. Его шагов совсем не слышно. На прогулку его не выводят. Обед или чай подают ему не в форточку, которая для этого имеется в двери, а вносят в камеру и ставят на стол. Очевидно, товарищ не в силах сам встать и взять свою миску и тарелку.
— Что с ним?
Вот вопрос, который с этого дня неотступно преследует меня. На этот вопрос, если я задам его стуком,
185
186
он может совсем не ответить мне. А если ответит, то не так, как нужно. Чтобы не волновать меня, он скажет:
— Так, пустяки! Какое-то недомогание. Голова болит.
К нему заходит доктор. Иногда, по предписанию доктора, дают ему какие-то порошки. Смотритель приносит бумажку с порошками, раскрывает ее и, протягивая больному, говорит:
— Надо слизнуть!
Т. е. порошки надо проглотить, а бумажку сейчас же вернуть ему. Бумажка, даже без карандаша, может быть опасной вещью, а потому правила запрещают давать ее в каком бы то ни было виде.
Доктор заходил к больному только для виду. Секретно он имеет предписание не лечить нас по-настоящему. Чем больше нас умрет, тем лучше для начальства. Доктор должен только присутствовать при том, как приближается смерть, и, в качестве сведущего человека, засвидетельствовать, что смерть была естественная, а не насильственная. Больной сам прекрасно понимает и чувствует, зачем заходит к нему доктор.
Поэтому со своей болезнью он должен бороться сам, без посторонней помощи.
И горе больному, если болезнь у него продолжительная! Горе ему, если он слег надолго, на целые месяцы! Болезнь обессилит его вконец. Образуются пролежни — язвы от лежания. Никто не позаботится о том, чтобы подложить ему что-нибудь помягче. Его голова иногда скатится с подушки и затечет от ненормального положения.
Никто не поправит ему подушки и не положит голову как следует.
Ему не подняться к столу, чтобы съесть ложки две супу.
Никто не войдет к нему и не покормит его.
186
187
У него горячечный жар. В горле пересохло, — нужна хоть одна капля воды, чтобы промочить его.
Никто не зайдет в камеру, чтобы оказать эту человеческую услугу.
Изнемогши вконец, больной не может больше сдерживаться, когда ему больно. Невольно, неожиданно для себя, он вскрикивает или протяжно стонет. Этот стон разрывает душу соседей, которые страдают за него, но ничем не могут помочь. А дежурный жандарм, услышав стон, не торопясь, подходит к его двери, заглядывает в глазок и равнодушно отходит прочь.
Он может помочь, но не хочет. Вернее, ему не разрешается помогать. Пусть стонет! И пусть скорее умирает!
Режим не допускал никаких смягчений. В первые годы койки на день запирались у всех, и у здоровых и у больных. Если не было сил сидеть или ходить, приходилось лежать на холодном каменном полу.
Наконец, больной при смерти. Его стоны раздаются все чаще и чаще и становятся почти непрерывными. У каждого из нас сердце выболело от сострадания и от горького сознания своей беспомощности.
Уж лучше бы умирал я сам! Тогда я встретил бы смерть спокойнее. Тогда я не беспокоился бы о том, что должен что-то делать, чтобы помочь умирающему товарищу. Но что здесь я могу сделать?
Стучи, кричи, бейся головой об стену, требуй, чтобы тебя пустили к больному облегчить его предсмертные страдания. Все бесполезно!
Над тобой только посмеются. Или скажут равнодушно:
— Начальство лучше знает, что нужно делать. Да и доктор есть, он наблюдает!
А если будешь нарушать тишину, то в карцер;
И к той скорби, которую причиняет болезнь товарища, прибавляется еще чувство глубочайшего возмущения, которое охватывает тебя после такого ответа.
187
188
Такое полное бездушие, такую черствость и жестокость трудно еще где-нибудь встретить в жизни.
На нашем мертвом острове смерть постоянно витала над каждым из нас. Мы смерти не боялись. Но никто никогда не позаботился облегчить нам предсмертные дни и часы. Свою жестокость к нам начальство как будто изощряло над умирающими. Перед смертью оно старалось не облегчить, а усугубить страдания.
И узник, который давно привык к тому, что с него не спускают глаз, что поминутно смотрят за каждым его шагом, на смертном одре начинает чувствовать себя совершенно беспризорным и заброшенным. Его неутомимые надзиратели вдруг оказываются слепыми, глухими и немыми.
Его товарищи близко, почти окружают его. Но каждый в своей камере, под замком, сидит словно прикованный к стене. Все слышит, все чувствует, но не подает признаков жизни.
И кажется при этом, что полное одиночество, одиночество на настоящем необитаемом острове гораздо легче, чем одиночество под одной крышей со многими товарищами. Они здесь скрыты и заперты за семью замками. Одиночество на глазах у других, которые слышат твою гибель, ломают в отчаянии руки и решительно ничем помочь не могут! Невозможно описать беспредельную душевную боль, терзающую здорового человека, запертого в одиночной камере, когда он . слышит и всем существом своим чувствует, что товарищ его, любимый друг, рядом с ним изнемогает в трагической борьбе со смертью, когда сердечный порыв властно гонит его на помощь к умирающему, чтобы хоть чем-нибудь облегчить горечь его последних минут.
Ничто не может сравниться с этими муками, кроме тех мук, которые испытывали мы, присутствуя при казни наших товарищей.
188
189
Разумеется, нам не пришлось видеть самого эшафота. Благодаря нашей полной изоляции в первые годы, администрации удалось скрыть от нас процедуру казней. Но когда в 1902 году казнили Балмашова, события этого от нас уже не смогли утаить. Случайно нам удалось увидеть, как в канцелярию провели под конвоем молодого человека, который впоследствии оказался Балмашевым, и как солдаты и другие лица, обязанные присутствовать при казни, ночью прошли мимо наших окон к заднему двору. Видели мы и то, как, возвращаясь оттуда через три четверти часа, они остановились перед церковью и набожно перекрестились.
К счастью, это была единственная казнь, которой мы были свидетелями. О других казнях мы узнали только в Петербурге.
После зрелища казней и медленного вымирания близких нам людей нас ожидало еще одно испытание: видеть постепенное разложение и уничтожение самого святого в человеке — его разума. Я говорю о тех товарищах, которые не выдержали ужасов Шлиссельбургского застенка и заболели психическим расстройством. Некоторые из них умерли в буйном помешательстве, другие — в состоянии полного слабоумия. Иные заболевали временным расстройством и поправлялись без медицинской помощи.
Там умирали одиноко беспризорные, в обществе близких людей, в соседстве горячо любящих товарищей.
И только десять лет спустя нам разрешено было посещать друг друга в камере. Тогда мы навещали друг друга и во время болезни. Но это разрешение пришло слишком поздно. До этого времени не дожили умиравшие, и такой «льготой» пользоваться было уже некому.
Вот какими скорбными чувствами и какими мрач-
189
190
ными мыслями часто сопровождалась вся наша жизнь, особенно в первые годы. Это была внутренняя сторона нашей жизни. Внутренней же стороной были и наши мрачные мысли.
XXXVII. Мрачные мысли.
Читать? Работать? Что за труд
В трясине мертвого болота!
Да пусть хоть горы книг дадут:
Все будешь выть и ждать чего-то!
Так я писал когда-то в одном из своих стихотворений, которых я никогда не собирал. Писал в минуты мрачного уныния, которое нередко надвигалось, как туча, из каких-то неведомых глубин душевного мира.
Есть русская пословица: «Живой человек живое и думает».
Так думали и мы.
Хоть нас и поселили на необитаемый остров, исключили из состава живых, удалили из нормальной жизни, но эту жизнь, оставшуюся за стенами крепости, мы постоянно вспоминали и страстно жаждали ее.
Никакие здешние увлечения и выдумки не могли заменить нам настоящей жизни. И тоска по ней была нашим постоянным гостем. В любую минуту за работой и без работы, ранним утром и поздним вечером эта непрошенная гостья неожиданно являлась к нам и, как туча, окрашивала весь окружающий мир в мрачный цвет.
Тогда ничто нас не радовало. Ничто не интересовало. Работа валилась из рук. А книга недвижимо лежала на столе или на коленях. Глаза в нее не смотрят, или смотрят, да ничего не видят. Мысли унеслись в далекую незабываемую быль и витают там
190
191
среди ярких воображаемых картин. А под ложечкой сосет да сосет неизлечимая, тупая, ноющая боль. И мы хорошо знали, что от этой боли нет лекарства!
Мы не могли заглушить навязчивых воспоминаний и направить их в другое русло. Они сильнее нас и ясно показывали, что в это время не мы владели своими мыслями, а они нами. Мысль попадает в среду ярких усопших образов прежней жизни и, как прикованная, остается среди них, вопреки собственному желанию.
Другая жизнь, настоящая, свободная, предстала перед нами в таинственном видении, поманила к себе всеми своими чарами и показала нам теперешнюю жизнь в ее настоящем черном свете.
Та жизнь, прежняя, насильно. вторгаясь в воображение, поражает резкой противоположностью по сравнению с настоящей, теперешней жизнью и ярко обнажает ее пустоту и никчемность.
Учиться! Развивать себя! Накоплять знания!
Но для чего?
Знания ради знаний? Ведь сами по себе знания, если их не применять к жизни, никому не нужны.
Ведь все твои трудовые навыки умрут здесь вместе с тобой! Сделайся хоть настоящим артистом в любом мастерстве, твое искусство останется без надлежащего употребления. Нельзя же утешаться тем, что твоими изделиями будут пользоваться все жандармы, от низших до высших? Они все равно за это не приблизят к тебе свободу ни на один лишний день.
Эта свобода все равно навсегда останется недосягаемой синей птицей. Она все равно, как мираж, будет являться к тебе только в видении и не явится в действительности.
Свобода, свобода…
Мысль о ней забывается только на короткое время.
191
192
И затем неожиданно вспыхивает и загорается ярким пламенем. Ее пленительный, хоть и бесформенный образ чарующим призраком выплывает в сознании и занимает его неотступно на целые часы дня и ночи.
Но где же эта свобода?
Да она везде, кроме этого места!
Ушел бы куда-нибудь, хоть в преисподнюю. Только бы подальше отсюда! Здесь столько пережито, столько перечувствовано, столько выстрадано…
И столько накопилось дорогих могил! Ведь больше половины товарищей уже похоронены здесь где-то за стеной крепости.
Мы так вросли в эту почву, орошенную нашим потом… и слезами… Так сжились со своим уголком необитаемого острова. Но, вместе с тем, здесь все так противно, так постыло, так несносно… Бежал бы без оглядки, куда глаза глядят!
Но нет, не убежишь! Нечего беспокоиться. Затворов слишком много. Они чрезвычайно крепки. И столько зорких глаз на каждом из нас, возле всех нас… И даже с высоты крепостных стен смотрят три пары глаз. Нигде не скроешься и никуда не пролезешь !
А все-таки нельзя ли попробовать? Вот, например, глухая, темная ночь. Снежная вьюга. Не видно ни зги. Третий час ночи.
Часовой спокойно дремлет. Ведь он дежурит уже двадцатый раз и по опыту знает, что в его дежурство не случится ничего тревожного. Он знает также, что отборные, заслуженные и доверенные жандармские унтера в тюрьме неусыпно заглядывают ночью в дверной глазок.
Да так ли? А вот, по-моему, это недремлющее око превосходно спит в коридоре. И даже похрапывает! Мое чуткое ухо ясно различает этот храп. Дерзай в этот желанный миг!
192
193
Заранее все приготовлено. Чик, чик, чик… Решетка перепилена и ждет только первой ночной вьюги. Вот она, эта вьюга! Она гудит и свистит во все щели. Минута, и я нырнул в форточку и вылез за окно. Спрыгнуть — легкое дело. Ведь у меня первый этаж.
А затем, легким шагом, в валенках, прямо к той решетке, которая ограждает вход на крепостную стену. Прыг, прыг, и на лестницу! Шаги часового гулко раздаются по деревянному настилу и выдают его движение ко мне, или от меня. Он идет три минуты в одну сторону и три в другую. Припасенную веревочную лестницу в один момент привязать к перилам часового, перешагнуть через них и… айда с семисаженной высоты прямо на берег Ладожского озера!
Во мраке ночи часовой не заметит веревочной лестницы. Да он не будет и заглядывать вниз. А вдаль… Да ведь вьюга слепит ему глаза и за три шага ровно ничего не видно.
И вот я на крепком льду Ладожского озера! Налево— меньше версты до берега. Минуя деревню, можно выйти к пороховым заводам. Здесь каждый рабочий охотно скроет беглеца, пока идут поиски. А там — свобода!.. Полная, радостная, упоительная!
Так переливаются мои мрачные мысли. Сначала тоска. Потом мечты о вольной жизни. Стремление к ней. И, наконец, неотвязные мысли о побеге. Побег, это — единственный путь к свободе, единственный способ избавиться от подневольной жизни в вечном заточении. Побег, как единственный спасительный якорь, неудержимо притягивает к себе все помыслы. Эти упоительные мечты так притягательны, что я, подобно больному, страдающему навязчивыми идеями, не в силах противиться им. И по целым часам, днем и ночью, я отдаюсь во власть этих грез, забыв все на свете.
Я разрабатывал до малейших подробностей все
193
194
приемы, которые надо осуществить, чтобы убежать как можно вернее и не быть пойманным.
Побег… и свобода!
Увлеченный этими мечтами и достаточно утомленный ими, вдруг очнешься словно после чудного сна. Очнешься и с ненавистью смотришь на толстые стены камеры, на крепкую решотку и плотно захлопнутую массивную дверь, обитую железом, без скобок и ручек.
И опять мрачные мысли с новыми переливами. . И опять ноет сердце и охватывает безысходная тоска. Тоска до слез. Тоска до мыслей о самоубийстве!.,
Некоторые товарищи не совладали с этими мыслями и покончили с собой. Покончили трагически. Мучительно.
Другие, и я в том числе, только подготовляли план, но, к счастью, не привели его в исполнение.
Кроме побега, самоубийство было единственным способом получить свободу. Свободу от подневольной жизни, которой не предвидится конца. Но свободу, которую дает только могила.
XXXVIII. Освобождение.
Но пришел желанный конец. И свободы мы дождались-таки.
Наш спасительный корабль появился в образе Революции 1905 года и принес нам освобождение.
В этом не было для нас ничего чудодейственного. Все произошло очень просто, согласно строгим историческим законам.
Мы были вычеркнуты из числа живых за то, что вызвали на бой самодержавный строй русского государства. Но мы вышли слишком рано. Силы наши были малы, и мы потерпели поражение.
А вызванное нами революционное движение не заглохло. Оно росло и накопляло силы. Мы были
194

КАРПОВИЧ, ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ
Как студент участвовал в студенческих волнениях и подвергся исключению. Когда студентов стали отдавать в солдаты за то, что они добивались разных студенческих прав (устройство кассы взаимопомощи, столовой и т. п.), Карпович вернулся из-за границы, куда отправился учиться, и застрелил 14 февраля 1901 года министра народного просвещения Боголепова. Осужденный на 20 лет каторжных работ, он был заточен в Шлиссельбургскую крепость. После революции 1905 года в начале 1906 года был переведен в Бутырскую тюрьму и ю мая 1906 года отправлен в Акатуй. Кончив срок по дороге на поселение, бежал и присоединился к боевой организации социалистов-революционеров, потом уехал за границу, в Англию, и при возвращении оттуда после революции 1917 года утонул в Атлантическом океане, когда английский корабль был взорван немецкой подводной лодкой.
Николай Морозов.
197
одиночками. На наше место пришли массы и заставили царя пойти на те уступки, о которых в наши дни запрещалось даже и думать.
Мы верили, что революционное семя взойдет и даст обильные всходы. Правда, пятнадцать-семнадцать лет мы ждали тщетно. Но мы все-таки верили, что каждый новый год приближает нас к |революции, а значит, и к нашей свободе.
О таком освобождении мы никогда не переставали думать. Только охваченные тоской или больными мыслями, мы поддавались соблазну самоубийства, или думали о побеге.
В спокойном же состоянии исторический, закономерный путь никогда не выходил у нас из головы.
Всегда так бывало, что революция, подготовленная общими причинами и бездарностью господствующих классов, наступала как-то неожиданно. Самые проницательные политики не решались утверждать, наступит она через месяц, через год или позже. С какой затаенной страстью предавались мы изучению исторических сочинений. С каким жгучим чувством отыскивали мы в книге все, что могло служить хоть косвенным, хоть отдаленным аргументом в пользу наших заветнейших убеждений. Здесь мы с особенной ясностью видели не только то, что прогресс идет вперед и с неодолимой настойчивостью разрушает все преграды, но особенно то, что в се народы всегда в конце концов завоевывают себе свободу и перестают считать преступным стремление к ней и борьбу за нее.
А когда мы получили, наконец, журналы, хотя бы и убогие, — с какой пытливостью набрасывались мы на внутреннюю политическую хронику.
Как в большом обществе, так и в нашей маленькой компании, перед революцией в воздухе носились
197
198
какие-то веяния, по которым чувствовалось ее наступление. А в тиши уединения, при многолетней отшельнической жизни, развивается особая чуткость, при которой человек может угадывать многое такое, чего другим не угадать. Трудно объяснить, почему тогда человек становится как бы ясновидящим. Но он чувствует, что приближаются серьезные перемены, и его чутье постепенно превращается в уверенность.
Все это было и у нас. За три месяца до освобождения я сделал себе из дерева дорожный сундучок в виде чемодана и стал обдумывать, как мне быть с моими коллекциями.
Прошло три года, как у нас уже оборвалась связь с Музеем, и мы туда ничего не отправляли. Работа же по изготовлению коллекций все продолжалась да продолжалась. Изготовлялись все новые и лучшие образцы. Все они оставались у меня и постепенно накапливались. Ящиков с коллекциями накопилось свыше тридцати штук. Может случиться, что объявят свободу неожиданно и увезут отсюда через час после этого. Как тогда быть?
Я сообразил, что тот шкапик, который давно стоял у меня в камере, вместо бывшей когда-то трехгранной этажерки, может сыграть роль дорожного сундука. Нужно только положить его на спину и привинтить к нему две железных скобки, одну в дно, другую в крышку шкапа. На это понадобится не больше десяти минут. К дверце можно приделать два ввинчивающихся кольца, повесить висячий замок, и сундук для перевозки моего имущества готов.
Был август 1905 года, когда я зашел в кузницу к Карповичу и заговорил с ним о скобках. Карпович еще не прожил у нас и пяти лет, а успел обнаружить большое усердие к кузнечному делу.
А когда он впервые явился к нам пять лет тому назад, то он привез новые вести.
198
199
Он уверял тогда, что мы не проживем здесь и пяти лет, что революция идет и скоро освободит нас.
Теперь же он осмеял мои преждевременные сборы и уверял, что для них не видно никаких оснований. Он еще не был умудрен долголетним уединением. Я говорю:
— Оставим напрасные споры. Мне кажется, что пора, а вам, что еще рано. Что за беда, если мои ручки пролежат в запасе целый год, а то и более. Все равно, ведь они понадобятся когда-нибудь!
Против этого возражать было трудно. И мы стали ковать. Он мастер, а я молотобоец.
Пять скобок вышли на славу. Одна с двумя петлями для чемодана и четыре с дырками для двух шкапов.
К чемодану была привинчена ручка и весь он был основательно пропитан олифой. Это против дождя.
Ручки для своего шкапа я убрал до того времени, как настанет момент. Другой такой же шкап моей работы стоял в камере у Морозова, и я с ним условился, что, когда мне будет нужно, он предоставит его в мое распоряжение.
Наступили октябрьские события 1905 года. Из случайных фраз жандармов мы кое-что улавливали и начинали строить догадки:
— Не приближается ли уже?
Но дни проходили, как обычно, похожие друг на друга, и никакого признака свободы!
Все владельцы парников перенесли их с большого двора на новое место и поставили новые срубы, чтобы ранней весной начать обычную компанию. Не было решительно никаких «знамений». Не выли собаки. Не каркали вороны. Гром не гремел, потому что был октябрь. Никто не появлялся в качестве предвестника
199
200
приближающейся свободы. Проходили уже последние дни.
Календарь показывал среду 26 октября. В 12-м часу дня мы маячили вдвоем с Морозовым в пятом огороде, который уже давно опустел. Но снега еще не было.
Вдруг щелкнула задвижка нашей двери, дежурный жандарм открыл ее и с обычным равнодушием сказал:
— Пожалуйте!
Полагая, что кто-нибудь приглашает нас к себе в другой огород, я спрашиваю:
— Обоим итти?
— Оба пожалуйте!
— Куда?
— В первый огород.
Мы тем же спокойным и медленным шагом, как всегда, выходим на двор и направляемся к первому огороду. Еще издали в открытую дверь мы видим, что там стоят трое товарищей, смотритель и комендант с бумагой в руках. У меня невольно сорвалось:
— Вот и дождались.
И действительно, дождались.
Нам объявили об освобождении из Шлиссельбурга, но прибавили:
— Сослать после этого в Сибирь на поселение.
С одного совсем необитаемого острова — сослать в мало обитаемое море тайги. Из тесного уголка— в чрезвычайно просторную землю. Здесь было слишком тесно, слишком мало места, там его слишком много. Предстоявшая нам в перспективе Иркутская губерния не сулила впереди ничего особенно заманчивого. И потому, глядя на зияющие тут рядом парниковые срубы, мне вдруг стало жалко покидать их, менять неведомо на что.
Такая свобода скорее пугала нас, чем радовала. Вот почему мы отнеслись к ней довольно равнодушно.
200
201
И только потом, независимо от высшего начальства, мы ни в какую Сибирь не попали.
Как мы ни ждали освобождения, оно все-таки застало нас врасплох. Мы не были готовы. А потому при назначении дня просили начальство подождать денька два и дать нам время для того, чтобы приготовиться к дальней дороге. Разговоры и пререкания с начальством длились не меньше часа.
Наконец жандармы согласились и решили: послезавтра, в пятницу, ровно в 12 часов за нами приедут два парохода, и мы все восьмеро (нас оставалось только восьмеро!) тронемся разом. А на берегу, согласно собственному выбору, разделимся по четыре человека на пароход. Каждый пароход будет сопровождать жандармская стража по восьми человек, под командой офицера.
— Уж извините, — говорит полковник Яковлев,— такое дано из Петербурга предписание.
Почти у всех на лбу выступила глубокая складка. А напряженное выражение лица выдавало только смущение и беспокойство перед новой открывающейся неизвестностью, которая сулит всяческие неожиданности и которой невольно страшится человек, обессиленный и совершенно отученный от жизни.
И чтобы заглушить внутреннюю тревогу, мы обменивались шутками и остротами.
Эти же дни мы должны посвятить сборам в дорогу, так как оказалось, что всякому разрешается взять с собою свои вещи: тетради и записки, книги и коллекции и разные другие изделия. Решено было также, что все двери внутри тюремной ограды будут открыты в течение этих двух дней и нас не будут стеснять в передвижениях.
Я не дослушал до конца всех разговоров и поспешил к себе в камеру, чтобы сообразить, как мне устроиться со своим имуществом.
201
202
А имущества у меня было немало, так как накопилось уже до 30 ящиков с разными коллекциями.
— На свободу, под строжайшим надзором!
Оказалось, что один я только был готов. Остальным было хлопот полон рот. Но и я, пользуясь досугом, занялся разборкой своих многочисленных бумаг. Я стал отбирать те, которых мне было жаль и которые могли еще пригодиться в моей будущей неведомой жизни. Не буду рассказывать, какая кутерьма царила у нас эти два дня.
Из мастерских выносили гвозди и молотки, доски и пилы. Из города привезли чемоданы. Всюду валялись упаковочные материалы и целые горы бумаг. Бумаги разбирались и раскладывались пачками.
Все ненужное откладывалось для уничтожения. Нам не хотелось, чтобы жандармы, оставшиеся здесь после нас, занялись чтением наших дум и размышлений.
Другие товарищи опередили меня. Они заняли кузницу, развели горн и бросили в него все, что нельзя было или не хотели увозить.
Два-три взмаха мехов, пламя вспыхивало и моментально уничтожало целые вороха бумаг.
Я пришел сюда с отобранными бумагами, раскачал мехи, постарался раздуть яркое пламя и быстро превратил в ничто плоды своих многолетних дум и многолетних трудов.
После я пожалел, что сжег многое такое, что можно было взять с собой и что пригодилось бы мне на воле. Оказалось, что ни наших вещей, ни наших бумаг никто решительно не задерживал и не осматривал.
Время от времени, утомленные беспорядочной возней и беготней, мы собирались все где-нибудь в укромном уголке, которых так много было у нас. Здесь мы предавались прощальным беседам и излияниям, наказам и обещаниям, а еще больше суждениям и до-
202
203
гадкам о том великом перевороте, который переживает родина.
Сколько лет мы его ждали. Сколько бессонных ночей проведено среди туманных и ярких, живых и смутных картин этого неизбежного переворота.
Мы дожили, наконец. Дождались переворота тогда, когда у некоторых истощался последний запас героического терпения.
Дождались… Едва ли кто-нибудь из читателей сумеет ясно представить себе, что значит двадцать лет ждать, и наконец — дождаться.
При одной мысли об этом дух захватывало и голову кружило.
Но предаваться лирическим излияниям нам было некогда. К тому же везут нас еще не на свободу, а в неведомые края.
По мере того как мы ликвидировали помаленьку свое хозяйство, возбуждение наше возрастало. Свобода, какая бы то ни было свобода, все-таки близилась.
Первая ночь прошла неспокойно, в видениях и в предвкушении наступающей воли. Но бессонная ночь не утомила нас, и мы встали еще более бодрыми и оживленными, чем легли.
Само наше начальство поддалось общему оживлению. Начальники приходили к нам запросто и приносили нам лакомства. Смотритель принес от имени своей жены необыкновенно пышный торт, а доктор — копченых сигов и шоколад.
Совершенно незаметно промелькнул второй день, и быстротечно пронеслась последняя ночь в Шлиссельбурге. Последняя ночь под этим гнетущим сводом, в безмолвии этой каменной гробницы. Последняя ночь из почти семи тысяч ночей, из которых каждая не сулила радостного пробуждения.
Наутро заколачивали еще кое-какие последние гвозди, увязывали последние веревки, делали описи,
203
204
и, наконец, к ю часам все это сдали на руки солдат которые выносили вещи и препровождали прямо на пароход.
К 12 часам позвали нас на последний обед. Надо ли говорит, что мы почти не дотронулись до него. Покончив с обедом, я пошел взглянуть в последний раз на покидаемую навеки камеру, камеру, где я схоронил всю свою молодость, всю лучшую часть своей жизни.
Наконец настал незабвенный момент. И мы сомкнутым строем тихо, в развалку, тронулись по пути к свободе. С каждым шагом мы оглядывались на свою грустную обитель, которую покидали без малейшего сожаления.
Едва мы переступили за порог тюремного двора, как все нам стало казаться странным и чуждым. По бокам дороги стояло все свободное население крепости, с женами и детьми, и бурно приветствовало нас. Для них это было столь же невиданное зрелище, как и для нас.
Еще два шага — и мы за воротами крепости.
За долгие годы мы отвыкли от широкого кругозора.
И когда мы вышли из ворот крепости и перед нами открылся простор Невы и свободная ширь горизонта, я не выдержал этого широкого размаха. У меня закружилась голова, я едва не упал и с большим трудом удержался на ногах.
Никто из нас не оглянулся ни на стены, ни на глухие ворота, которые мы оставляли позади и за которыми мы оставили пол жизни и всю свою молодость. Глаза наши устремлялись вперед, где на рейде уже покачивались два парохода. И нам казалось, что, пока не скроется из наших глаз ненавистный остров, мы еще не почувствуем дыхания свободы.
Нам хотелось попасть на пароход как можно скорее, сейчас же тронуться в путь и как можно скорее поки-
204
205
нуть совсем этот ужасный берег. Только тогда, думалось нам, наше освобождение будет надежное.
А то вдруг, пока мы еще у ворот застенка, жандармы раздумают и вернут нас обратно!
Через три минуты лодки повезли нас к пароходам. А еще через две минуты пароходы тронулись друг за другом. Я чувствовал себя не совсем твердо на ногах. Казалось, как будто пароход покачивало. Мы вышли на палубу и первый раз оглянулись кругом как следует.
Однако в первые минуты, очутившись на палубе, мы устремляли свои взоры не столько на широкое раздолье вольного мира и темную зыбь красавицы Невы, сколько на каменную твердыню, где мы оставили лучшую часть своей жизни. Там, именно там, было похоронено нами столько друзей и столько гордых дум, горячих сердечных порывов, бескорыстных стремлений и пережито еще более тяжких, неизгладимых страданий. Тут только я впервые и мог рассмотреть внешний вид этой могилы, из которой мы каким-то чудом вышли, хотя и мы могли бы подобно многим и многим товарищам, сложить здесь свои буйные кости…
Мрачные и угрюмые стены, выходящие почти прямо из воды, производят необыкновенно тяжелое впечатление. Повернувшись назад, мы долго еще не отрывали глаз от быстро удалявшейся крепости, которая, теряясь вдали, становилась еще более мрачной и еще более угрожающей. Даже уезжая отсюда, нельзя отделаться от этого впечатления.
И только тогда, когда она за поворотом реки скрылась совсем из глаз, мы вздохнули полной грудью. И только тут, подчиняясь одному и тому же чувству, мы радостно взглянули друг другу в глаза и воскликнули :
— Наконец, свобода!
205
XXXIX. На пути к родине.
На этом мне и следовало бы закончить историю тюремных Робинзонов. Но, заканчивая так, я оставил бы их еще не на свободе, а в руках конвойных жандармов.
На свободу же не отправляют под конвоем!
Свободу пока-что мы увидели только из окошка, точнее с палубы того маленького пароходика, на котором мы ехали вчетвером и осматривали окружающий мир.
Эти четверо были: я, Морозов, Лука и Лопатин.
На другом пароходе, который опередил нас на целую версту, помещались: Фроленко, Попов, Антонов и С. Иванов *.
Невозможно передать, с какой жадностью мы вперяли свои взоры в оба берега, которые двигались перед нашими глазами, как на ленте кинематографа.
Глаза, отвыкшие видеть что бы то ни было кроме тесного тюремного двора, не глядели, а именно «пожирали» все предметы, которые выступали перед ними, ежеминутно сменяясь одни другими.
Вот плотной массой стоят желтоствольные хмурые и угрюмые сосны. Конечно, с парохода не слышно,, а все-таки кажется, что они гудят своим задумчивым гулом. И этот гул как будто отдается в ушах, хотя прошло уж двадцать лет с тех пор, как уши не слыхали его.
Вот веселый березняк, с белыми, как будто улыбающимися стволами, с разнообразной зеленью, которую поздняя осень разукрасила самыми пестрыми узорами: зелено-желто-оранжево-красноватыми, сходя-
—
* В. Н. Фигнер и Л. А. Волкенштейн и некоторые другие товарищи были освобождены раньше.
206
207
щими на-нет, потому что многие ветви стояли уже совершенно голыми.
Вот прихотливые домики, как деревенской постройки, так и городской — для дачного жилья. Тут и садик, и дорожка, усыпанная песком, и причудливая решетчатая ограда.
А вот столбовая дорога. Вдоль нее столбы с телеграфной проволокой, А по ней бежит лошадка в упряжи — настоящая, живая, в дуге и в оглоблях,— точь-в-точь такая же, какую я видывал девятнадцать лет тому назад!
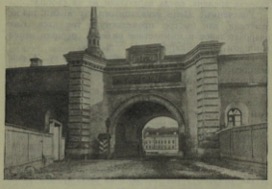
Словом, мы видим кусочек вольного мира, такого близкого и такого далекого от нас. И нас так и тянет прыгнуть прямо с парохода и очутиться скорее там на дороге, где мужичок трусит па своей лошадке и даже не смотрит на нас.
207
208
— Где ему, — думаем мы, — понять те глубокие чувства, которые волнуют нас, немногих пассажиров этих двух маленьких пароходиков, вздохнувших только-что в первый раз опьяняющим воздухом свободы.
И больше всего нас волновало то, что все предметы, какие мы видели, знакомые нам предметы, — казались нам чудными, не похожими на самих себя.
Мы успели уже забыть, какими мы видели их в те далекие времена, когда наблюдали их на свободе.
Увлеченные давно невиданными картинами, мы не заметили, как быстро промелькнули три часа. Как очаровательное и мимолетное виденье, прошли перед нами эти живые картины. И скрылись.
Приближался город. Нас убрали в каюту. А еще немного спустя мы очутились в одиночных камерах Петропавловской крепости.
Эти камеры нового и в то же время старого жилища нам были хорошо знакомы. По ходу дела каждый из нас содержался здесь по нескольку месяцев, а то и по нескольку лет прежде, чем попал на всю жизнь в безысходный Шлиссельбург. И каждому из нас интересно было сравнить: как было прежде и как теперь?
Одиночкой теперь нас не запугаешь. Да и ничем на свете запугать невозможно после Шлиссельбурга. А так как везут нас все-таки на свободу, все равно какую, то и путать не для чего.
Мы вступили в кордегардию Трубецкого бастиона сомкнутым строем, все восьмеро. Через две минуты появился здешний комендант и сообщил нам строгие правила для живущих здесь узников.
— Как? Вы будете содержать нас на общем положении? По общим правилам? — сказали мы ему.— Да разве мы приехали к вам на общем положении!
— Мы жили на каторжном положении и занимались всем, чем хотели. А теперь мы на пути к свободе, и вы хотите не давать нам ничего!
208
209
— Мы жили вместе почти двадцать лет, и вы хотите разлучить нас?
— Мы целый день гуляли на дворе, а вы теперь хотите пускать нас по одиночке только на четверть часа каждого. Нет, извините! Этого мы не желаем и ваших правил к себе не применяем.
Долго мы спорили с ним, наконец, сговорились.
Восемь человек по четверть часа составляют два часа прогулки. Эти два часа мы и будем гулять все вместе. Жить же будем по одиночке. Здесь мы тотчас почувствовали массу мелких житейских неудобств, переносить которые мы уже отвыкли. Тут была голая камера, железный стол, кровать и ничего больше. Ни ножей, ни вилок, ни гребенки, ни бумаг, ни чернил, га стула. Читать и писать, особенно вечером, можно было только сидя на кровати в крайне неудобной позе.
Но что значат все такие пустяки — будь их целый миллион, — при том самочувствии, которое охватывает человека, когда он стоит у врат свободы.
К тому же со стороны друзей и родных мы встретили такую бездну участия, сердечной привязанности, радушия и готовности скрасить нам эти последние переходные дни, что они сделались для нас, действительно, одним сплошным праздником.
Я забыл сказать, что два сундука со своими коллекциями я уже передал в надежные руки, я хотел чтобы их водворили в будущий народный университет.
Вскоре власти приступили к новому пересмотру нашей судьбы, Оказалось, что ни о какой Сибири сейчас и думать нечего.
На первом же свидании, кажется, Лопатина с сыном, ему передали, что нас ожидает что-то другое, но только не Сибирь.
Вскоре и другие успели повидаться со своими родственниками, в первый раз за все двадцать лет. Много тут было шуток, разговору, смеха и слез, но
209
210
слез уже радостных. Казалось, все прошлое теперь уже позади и никогда не вернется. А впереди нас ожидает новая вольная жизнь. И в этой жизни мы никогда больше не будем разлучаться так долго.
— Не правда ли? Ведь ты нас не покинешь? — И снова шутки, смех и слезы.
Больше всего нас позабавила перемена костюма. Мы приехали сюда в арестантской одежде и в ней должны бы выйти на свободу, если бы наши близкие не позаботились переодеть нас. Костюмы доставлялись нам в камеру, где мы их выбирали, примеряли, надевали и, наконец, появлялись на двор друг перед другом в более или менее преображенном виде. За долгое время сожительства мы слишком привыкли к одинаковой одежде всех товарищей. И теперь эта новая костюмировка, притом у каждого на свой лад, смешила и потешала нас, как настоящий маскарад.
Через неделю мы узнали, что судьба наша принимает определенный оборот.
Вместо далеких стран каждый из нас отправляется либо на родину, либо к своим родным, по месту их жительства.
Вскоре пришло окончательное решение и настала наша последняя разлука друг с другом. Совместная жизнь, которая так сблизила нас, сдружила и сроднила, теперь кончается. Какова бы ни была другая жизнь, она будет уже не той, когда мы все вместе были Робинзонами. Может быть мы будем часто встречаться, может быть и редко. Но Робинзонами мы больше не будем!
Действительно, первым уехал Морозов в Ярославскую губернию к себе на родину, к своей матери, которая была еще жива и с огромным нетерпением ждала его. Как ни грустно было нам разлучаться, но было ясно, что он рвется уехать как можно скорее
210
211
и считает последние часы и минуты, которые он проводит с нами, под замком.
Вот теперь только ему улыбнулась свобода. И уже настоящая свобода!
Расстались с ним, и он уехал. Через несколько дней уехал также и Попов. Сестры увозили его тоже на родину в Ростов-на-Дону, тоже к матери, которая и жила только одной мыслью, как бы дождаться свидания со своим заживо похороненным сыном.
Так в течение трех недель разъехались все. Остались только мы с Антоновым вдвоем. Меня выпустили 22 ноября, и я отправился к школьному товарищу в Выборг, в Финляндию, которая и тогда совсем не знала русских жандармов. Антонова долго не хотели выпускать к матери в Николаев, Херсонской губ. Но, наконец, друзьям его удалось преодолеть начальственный каприз, и через неделю после меня уехал и он на родину.
Так и разъехались, наконец, все наши Робинзоны.
Я прожил в Выборге один год с четвертью, до апреля 1907 года. К этому времени мой Лука, живший на родине в Виленской губ. у сестер, получил разрешение переехать в Петербург для научных занятий.
По его примеру похлопотал и я и получил также разрешение. С тех пор я и живу неизменно в этом городе.
Великая революция раскрыла все царские тайники и застенки. Теперь она же открыла всем желающим доступ и на наш остров, где жили, трудились, томились и гибли наши тюремные Робинзоны.
211
СОДЕРЖАНИЕ.
М. В. Новорусский — статья Веры Фигнер ……………….. 9
Что мы знаем о Робинзоне (вместо введения) ……. 17
Часть первая……………………………………………………………………………………………… 19
Часть вторая………………………………………………………………………………………………. 51
Часть третья………………………………………………………………………………………………. 80
Часть четвертая…………………………………………………………………………………… 128
Часть пятая………………………………………………………………………………………………. 159
Часть шестая………………………………………………………………………………………….. 185